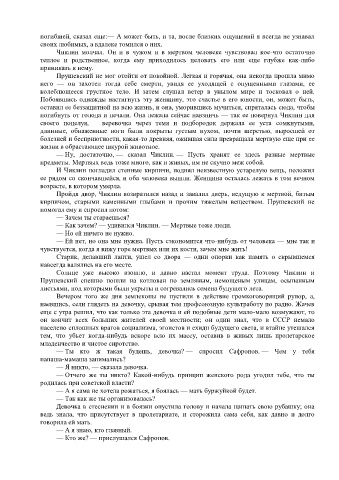Page 27 - Котлован
P. 27
погибшей, сказал еще:— А может быть, и та, после близких ощущений я всегда не узнавал
своих любимых, а вдалеке томился о них.
Чиклин молчал. Он и в чужом и в мертвом человеке чувствовал кое-что остаточно
теплое и родственное, когда ему приходилось целовать его или еще глубже как-либо
приникать к нему.
Прушевский не мог отойти от покойной. Легкая и горячая, она некогда прошла мимо
него — он захотел тогда себе смерти, увидя ее уходящей с опущенными глазами, ее
колеблющееся грустное тело. И затем слушал ветер в унылом мире и тосковал о ней.
Побоявшись однажды настигнуть эту женщину, это счастье в его юности, он, может быть,
оставил ее беззащитной на всю жизнь, и она, уморившись мучиться, спряталась сюда, чтобы
погибнуть от голода и печали. Она лежала сейчас навзничь — так ее повернул Чиклин для
своего поцелуя, — веревочка через темя и подбородок держала ее уста сомкнутыми,
длинные, обнаженные ноги были покрыты густым пухом, почти шерстью, выросшей от
болезней и бесприютности, какая-то древняя, ожившая сила превращала мертвую еще при ее
жизни в обрастающее шкурой животное.
— Ну, достаточно, — сказал Чиклин. — Пусть хранят ее здесь разные мертвые
предметы. Мертвых ведь тоже много, как и живых, им не скучно меж собой.
И Чиклин погладил стенные кирпичи, поднял неизвестную устарелую вещь, положил
ее рядом со скончавшейся, и оба человека вышли. Женщина осталась лежать в том вечном
возрасте, в котором умерла.
Пройдя двор, Чиклин возвратился назад и завалил дверь, ведущую к мертвой, битым
кирпичом, старыми каменными глыбами и прочим тяжелым веществом. Прушевский не
помогал ему и спросил потом:
— Зачем ты стараешься?
— Как зачем? — удивился Чиклин. — Мертвые тоже люди.
— Но ей ничего не нужно.
— Ей нет, но она мне нужна. Пусть сэкономится что-нибудь от человека — мне так и
чувствуется, когда я вижу горе мертвых или их кости, зачем мне жить!
Старик, делавший лапти, ушел со двора — одни опорки как память о скрывшемся
навсегда валялись на его месте.
Солнце уже высоко взошло, и давно настал момент труда. Поэтому Чиклин и
Прушевский спешно пошли на котлован по земляным, немощеным улицам, осыпанным
листьями, под которыми были укрыты и согревались семена будущего лета.
Вечером того же дня землекопы не пустили в действие громкоговорящий рупор, а,
наевшись, сели глядеть на девочку, срывая тем профсоюзную культработу по радио. Жачев
еще с утра решил, что как только эта девочка и ей подобные дети мало-мало возмужают, то
он кончит всех больших жителей своей местности; он один знал, что в СССР немало
населено сплошных врагов социализма, эгоистов и ехидн будущего света, и втайне утешался
тем, что убьет когда-нибудь вскоре всю их массу, оставив в живых лишь пролетарское
младенчество и чистое сиротство.
— Ты кто ж такая будешь, девочка? — спросил Сафронов. — Чем у тебя
папаша-мамаша занимались?
— Я никто, — сказала девочка.
— Отчего же ты никто? Какой-нибудь принцип женского рода угодил тебе, что ты
родилась при советской власти?
— А я сама не хотела рожаться, я боялась — мать буржуйкой будет.
— Так как же ты организовалась?
Девочка в стеснении и в боязни опустила голову и начала щипать свою рубашку; она
ведь знала, что присутствует в пролетариате, и сторожила сама себя, как давно и долго
говорила ей мать.
— А я знаю, кто главный.
— Кто же? — прислушался Сафронов.