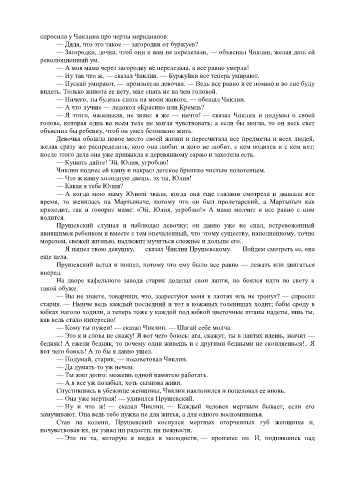Page 26 - Котлован
P. 26
спросила у Чиклина про черты меридианов:
— Дядя, что это такое — загородки от буржуев?
— Загородки, дочка, чтоб они к нам не перелезали, — объяснил Чиклин, желая дать ей
революционный ум.
— А моя мама через загородку не перелезала, а все равно умерла!
— Ну так что ж, — сказал Чиклин. — Буржуйки все теперь умирают.
— Пускай умирают, — произнесла девочка. — Ведь все равно я ее помню и во сне буду
видеть. Только живота ее нету, мне спать не на чем головой.
— Ничего, ты будешь спать на моем животе, — обещал Чиклин.
— А что лучше — ледокол «Красин» или Кремль?
— Я этого, маленькая, не знаю: я же — ничто! — сказал Чиклин и подумал о своей
голове, которая одна во всем теле не могла чувствовать; а если бы могла, то он весь свет
объяснил бы ребенку, чтоб он умел безопасно жить.
Девочка обошла новое место своей жизни и пересчитала все предметы и всех людей,
желая сразу же распределить, кого она любит и кого не любит, с кем водится и с кем нет;
после этого дела она уже привыкла к деревянному сараю и захотела есть.
— Кушать дайте! Эй, Юлия, угроблю!
Чиклин поднес ей кашу и накрыл детское брюшко чистым полотенцем.
— Что ж кашу холодную даешь, эх ты, Юлия!
— Какая я тебе Юлия?
— А когда мою маму Юлией звали, когда она еще глазами смотрела и дышала все
время, то женилась на Мартыныче, потому что он был пролетарский, а Мартыныч как
приходит, так и говорит маме: «Эй, Юлия, угроблю!» А мама молчит и все равно с ним
водится.
Прушевский слушал и наблюдал девочку; он давно уже не спал, встревоженный
явившимся ребенком и вместе с тем опечаленный, что этому существу, наполненному, точно
морозом, свежей жизнью, надлежит мучиться сложнее и дольше его.
— Я нашел твою девушку, — сказал Чиклин Прушевскому. — Пойдем смотреть ее, она
еще цела.
Прушевский встал и пошел, потому что ему было все равно — лежать или двигаться
вперед.
На дворе кафельного завода старик доделал свои лапти, но боялся идти по свету в
такой обуже.
— Вы не знаете, товарищи, что, заарестуют меня в лаптях иль не тронут? — спросил
старик. — Нынче ведь каждый последний и тот в кожаных голенищах ходит; бабы сроду в
юбках наголо ходили, а теперь тоже у каждой под юбкой цветочные штаны надеты, ишь ты,
как ведь стало интересно!
— Кому ты нужен! — сказал Чиклин. — Шагай себе молча.
— Это я и слова не скажу! Я вот чего боюсь: ага, скажут, ты в лаптях идешь, значит —
бедняк! А ежели бедняк, то почему один живешь и с другими бедными не скопляешься!.. Я
вот чего боюсь! А то бы я давно ушел.
— Подумай, старик, — посоветовал Чиклин.
— Да думать-то уж нечем.
— Ты жил долго: можешь одной памятью работать.
— А я все уж позабыл, хоть сызнова живи.
Спустившись в убежище женщины, Чиклин наклонился и поцеловал ее вновь.
— Она уже мертвая! — удивился Прушевский.
— Ну и что ж! — сказал Чиклин. — Каждый человек мертвым бывает, если его
замучивают. Она ведь тебе нужна не для житья, а для одного воспоминанья.
Став на колени, Прушевский коснулся мертвых огорченных губ женщины и,
почувствовав их, не узнал ни радости, ни нежности.
— Это не та, которую я видел в молодости, — произнес он. И, поднявшись над