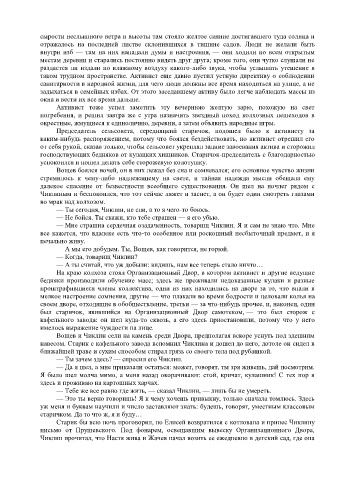Page 37 - Котлован
P. 37
сырости неслышного ветра и высоты там стояло желтое сияние достигавшего туда солнца и
отражалось на последней листве склонившихся в тишине садов. Люди не желали быть
внутри изб — там на них нападали думы и настроения, — они ходили по всем открытым
местам деревни и старались постоянно видеть друг друга; кроме того, они чутко слушали не
раздастся ли издали по влажному воздуху какого-либо звука, чтобы услышать утешение в
таком трудном пространстве. Активист еще давно пустил устную директиву о соблюдении
санитарности в народной жизни, для чего люди должны все время находиться на улице, а не
задыхаться в семейных избах. От этого заседавшему активу было легче наблюдать массы из
окна и вести их все время дальше.
Активист тоже успел заметить эту вечернюю желтую зарю, похожую на свет
погребения, и решил завтра же с утра назначить звездный поход колхозных пешеходов в
окрестные, жмущиеся к единоличию, деревни, а затем объявить народные игры.
Председатель сельсовета, середняцкий старичок, подошел было к активисту за
каким-нибудь распоряжением, потому что боялся бездействовать, но активист отрешил его
от себя рукой, сказав только, чтобы сельсовет укреплял задние завоевания актива и сторожил
господствующих бедняков от кулацких хищников. Старичок-председатель с благодарностью
успокоился и пошел делать себе сторожевую колотушку.
Вощев боялся ночей, он в них лежал без сна и сомневался; его основное чувство жизни
стремилось к чему-либо надлежащему на свете, и тайная надежда мысли обещала ему
далекое спасение от безвестности всеобщего существования. Он шел на ночлег рядом с
Чиклиным и беспокоился, что тот сейчас ляжет и заснет, а он будет один смотреть глазами
во мрак над колхозом.
— Ты сегодня, Чиклин, не спи, а то я чего-то боюсь.
— Не бойся. Ты скажи, кто тебе страшен — я его убью.
— Мне страшна сердечная озадаченность, товарищ Чиклин. Я и сам не знаю что. Мне
все кажется, что вдалеке есть что-то особенное или роскошный несбыточный предмет, и я
печально живу.
— А мы его добудем. Ты, Вощев, как говорится, не горюй.
— Когда, товарищ Чиклин?
— А ты считай, что уж добыли: видишь, нам все теперь стало ничто…
На краю колхоза стоял Организационный Двор, в котором активист и другие ведущие
бедняки производили обучение масс; здесь же проживали недоказанные кулаки и разные
проштрафившиеся члены коллектива, одни из них находились на дворе за то, что впали в
мелкое настроение сомнения, другие — что плакали во время бодрости и целовали колья на
своем дворе, отходящие в обобществление, третьи — за что-нибудь прочее, и, наконец, один
был старичок, явившийся на Организационный Двор самотеком, — это был сторож с
кафельного завода: он шел куда-то сквозь, а его здесь приостановили, потому что у него
имелось выражение чуждости на лице.
Вощев и Чиклин сели на камень среди Двора, предполагая вскоре уснуть под здешним
навесом. Старик с кафельного завода вспомнил Чиклина и дошел до него, дотоле он сидел в
ближайшей траве и сухим способом стирал грязь со своего тела под рубашкой.
— Ты зачем здесь? — спросил его Чиклин.
— Да я шел, а мне приказали остаться: может, говорят, ты зря живешь, дай посмотрим.
Я было шел молча мимо, а меня назад окорачивают: стой, кричат, кулашник! С тех пор я
здесь и проживаю на картошных харчах.
— Тебе же все равно где жить, — сказал Чиклин, — лишь бы не умереть.
— Это ты верно говоришь! Я к чему хочешь привыкну, только сначала томлюсь. Здесь
уж меня и буквам научили и число заставляют знать: будешь, говорят, уместным классовым
старичком. Да то что ж, я и буду…
Старик бы всю ночь проговорил, но Елисей возвратился с котлована и принес Чиклину
письмо от Прушевского. Под фонарем, освещавшим вывеску Организационного Двора,
Чиклин прочитал, что Настя жива и Жачев начал возить ее ежедневно в детский сад, где она