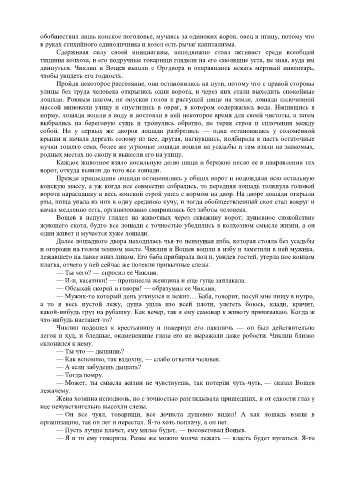Page 39 - Котлован
P. 39
обобществил лишь конское поголовье, мучаясь за одиноких коров, овец и птицу, потому что
в руках стихийного единоличника и козел есть рычаг капитализма.
Сдерживая силу своей инициативы, неподвижно стоял активист среди всеобщей
тишины колхоза, и его подручные товарищи глядели на его смолкшие уста, не зная, куда им
двинуться. Чиклин и Вощев вышли с Оргдвора и отправились искать мертвый инвентарь,
чтобы увидеть его годность.
Пройдя некоторое расстояние, они остановились на пути, потому что с правой стороны
улицы без труда человека открылись одни ворота, и через них стали выходить спокойные
лошади. Ровным шагом, не опуская голов к растущей пище на земле, лошади сплоченной
массой миновали улицу и спустились в овраг, в котором содержалась вода. Напившись в
норму, лошади вошли в воду и постояли в ней некоторое время для своей чистоты, а затем
выбрались на береговую сушь и тронулись обратно, не теряя строя и сплочения между
собой. Но у первых же дворов лошади разбрелись — одна остановилась у соломенной
крыши и начала дергать солому из нее, другая, нагнувшись, подбирала в пасть остаточные
пучки тощего сена, более же угрюмые лошади вошли на усадьбы и там взяли на знакомых,
родных местах по снопу и вынесли его на улицу.
Каждое животное взяло посильную долю пищи и бережно несло ее в направлении тех
ворот, откуда вышли до того все лошади.
Прежде пришедшие лошади остановились у общих ворот и подождали всю остальную
конскую массу, а уж когда все совместно собрались, то передняя лошадь толкнула головой
ворота нараспашку и весь конский строй ушел с кормом на двор. На дворе лошади открыли
рты, пища упала из них в одну среднюю кучу, и тогда обобществленный скот стал вокруг и
начал медленно есть, организованно смирившись без заботы человека.
Вощев в испуге глядел на животных через скважину ворот; душевное спокойствие
жующего скота, будто все лошади с точностью убедились в колхозном смысле жизни, а он
один живет и мучается хуже лошади.
Далее лошадного двора находилась чья-то неимущая изба, которая стояла без усадьбы
и огорожи на голом земном месте. Чиклин и Вощев вошли в избу и заметили в ней мужика,
лежавшего на лавке вниз лицом. Его баба прибирала пол и, увидев гостей, утерла нос концом
платка, отчего у ней сейчас же потекли привычные слезы.
— Ты чего? — спросил ее Чиклин.
— И-и, касатики! — произнесла женщина и еще гуще заплакала.
— Обсыхай скорей и говори! — образумил ее Чиклин.
— Мужик-то который день уткнулся и лежит… Баба, говорит, посуй мне пищу в нутро,
а то я весь пустой лежу, душа ушла изо всей плоти, улететь боюсь, клади, кричит,
какой-нибудь груз на рубашку. Как вечер, так я ему самовар к животу привязываю. Когда ж
что-нибудь настанет-то?
Чиклин подошел к крестьянину и повернул его навзничь — он был действительно
легок и худ, и бледные, окаменевшие глаза его не выражали даже робости. Чиклин близко
склонился к нему.
— Ты что — дышишь?
— Как вспомню, так вздохну, — слабо ответил человек.
— А если забудешь дышать?
— Тогда помру.
— Может, ты смысла жизни не чувствуешь, так потерпи чуть-чуть, — сказал Вощев
лежачему.
Жена хозяина исподволь, но с точностью разглядывала пришедших, и от едкости глаз у
нее нечувствительно высохли слезы.
— Он все чуял, товарищи, все дочиста душевно видел! А как лошадь взяли в
организацию, так он лег и перестал. Я-то хоть поплачу, а он нет.
— Пусть лучше плачет, ему милее будет, — посоветовал Вощев.
— Я и то ему говорила. Разве же можно молча лежать — власть будет пугаться. Я-то