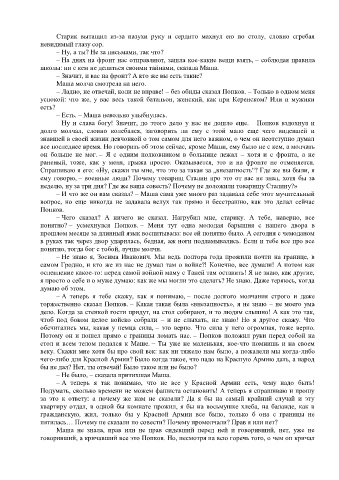Page 145 - Живые и мертвые
P. 145
Старик вытащил из-за пазухи руку и сердито махнул ею по столу, словно сгребая
невидимый глазу сор.
– Ну, а ты? Не за письмами, так что?
– На днях на фронт нас отправляют, зашла кое-какие вещи взять, – соблюдая правила
школы: ни с кем не делиться своими тайнами, сказала Маша.
– Значит, и вас на фронт? А кто же вы есть такие?
Маша молча смотрела на него.
– Ладно, не отвечай, коли не вправе! – без обиды сказал Попков. – Только в одном меня
успокой: что же, у вас весь такой батальон, женский, как при Керенском? Или и мужики
есть?
– Есть. – Маша невольно улыбнулась.
– Ну и слава богу! Значит, до этого дело у нас не дошло еще. – Попков вздохнул и
долго молчал, словно колебался, заговорить ли ему с этой мало еще чего видевшей и
знавшей в своей жизни девчонкой о том самом для него важном, о чем он неотступно думал
все последнее время. Но говорить об этом сейчас, кроме Маши, ему было не с кем, а молчать
он больше не мог. – Я с одним полковником в больнице лежал – хотя и с фронта, а не
раненый, тоже, как у меня, грыжа просто. Оказывается, это и на фронте не отменяется.
Спрашиваю я его: «Ну, скажи ты мне, что это за такая за „внезапность“? Где же вы были, я
ему говорю, – военные люди? Почему товарищ Сталин про это от вас не знал, хотя бы за
неделю, ну за три дня? Где же ваша совесть? Почему не доложили товарищу Сталину?»
– И что же он вам сказал? – Маша сама уже много раз задавала себе этот мучительный
вопрос, но еще никогда не задавала вслух так прямо и бесстрашно, как это делал сейчас
Попков.
– Чего сказал? А ничего не сказал. Нагрубил мне, старику. А тебе, наверно, все
понятно? – усмехнулся Попков. – Меня тут одна молодая барышня с нашего двора в
прошлом месяце за длинный язык воспитывала: все ей понятно было. А сегодня с чемоданом
в руках так через двор ударилась, бедная, аж ноги подламывались. Если и тебе все про все
понятно, тогда бог с тобой, лучше молчи.
– Не знаю я, Зосима Иванович. Мы ведь полтора года прожили почти на границе, в
самом Гродно, и кто же из нас не думал там о войне?! Конечно, все думали! А потом как
ослепление какое-то: перед самой войной маму с Таней там оставить! Я не знаю, как другие,
я просто о себе и о муже думаю: как же мы могли это сделать? Не знаю. Даже теряюсь, когда
думаю об этом.
– А теперь я тебе скажу, как я понимаю, – после долгого молчания строго и даже
торжественно сказал Попков. – Какая такая была «внезапность», я не знаю – не моего ума
дело. Когда за стенкой гости придут, на стол собирают, и то людям слышно! А как это так,
чтоб под боком целое войско собрали – и не слыхать, не знаю! Но я другое скажу. Что
обсчитались мы, какая у немца сила, – это верно. Что сила у него огромная, тоже верно.
Потому он и пошел прямо с границы ломать нас. – Попков положил руки перед собой на
стол и всем телом подался к Маше. – Ты уже не маленькая, кое-что помнишь и на своем
веку. Скажи мне хотя бы про свой век: как ни тяжело нам было, а пожалели мы когда-либо
чего-либо для Красной Армии? Было когда такое, что надо на Красную Армию дать, а народ
бы не дал? Нет, ты отвечай! Было такое или не было?
– Не было, – сказала притихшая Маша.
– А теперь я так понимаю, что не все у Красной Армии есть, чему надо быть!
Подумать, сколько времени не можем фашиста остановить! А теперь я спрашиваю и прошу
за это к ответу: а почему же нам не сказали? Да я бы на самый крайний случай и эту
квартиру отдал, в одной бы комнате прожил, я бы на восьмушке хлеба, на баланде, как в
гражданскую, жил, только бы у Красной Армии все было, только б она с границы не
пятилась… Почему не сказали по совести? Почему промолчали? Прав я или нет?
Маша не знала, прав или не прав сидевший перед ней и говоривший, нет, уже не
говоривший, а кричавший все это Попков. Но, несмотря на всю горечь того, о чем он кричал