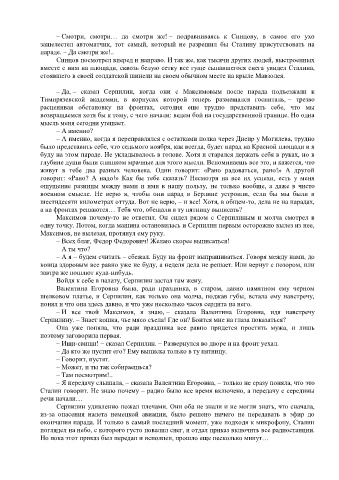Page 209 - Живые и мертвые
P. 209
– Смотри, смотри… да смотри же! – подравниваясь к Синцову, в самое его ухо
зашелестел автоматчик, тот самый, который не разрешил бы Сталину присутствовать на
параде. – Да смотри же!..
Синцов посмотрел вперед и направо. И так же, как тысячи других людей, выстроенных
вместе с ним на площади, сквозь белую сетку все гуще сыпавшегося снега увидел Сталина,
стоявшего в своей солдатской шинели на своем обычном месте на крыле Мавзолея.
– Да, – сказал Серпилин, когда они с Максимовым после парада подъезжали к
Тимирязевской академии, в корпусах которой теперь размещался госпиталь, – трезво
расценивая обстановку на фронтах, сегодня еще трудно представить себе, что мы
возвращаемся хотя бы к тому, с чего начали: ведем бой на государственной границе. Но одна
мысль меня сегодня утешает.
– А именно?
– А именно, когда я переправлялся с остатками полка через Днепр у Могилева, трудно
было представить себе, что седьмого ноября, как всегда, будет парад на Красной площади и я
буду на этом параде. Не укладывалось в голове. Хотя и старался держать себя в руках, но в
глубине души были слишком мрачные для этого мысли. Вспоминаешь все это, и кажется, что
живут в тебе два разных человека. Один говорит: «Рано радоваться, рано!» А другой
говорит: «Рано? А надо!» Как бы тебе сказать? Несмотря на все их успехи, есть у меня
ощущение разницы между нами и ими в нашу пользу, не только вообще, а даже в чисто
военном смысле. Не верю я, чтобы они парад в Берлине устроили, если бы мы были в
шестидесяти километрах оттуда. Вот не верю, – и все! Хотя, в общем-то, дела не на парадах,
а на фронтах решаются… Тебя что, обещали в ту пятницу выписать?
Максимов почему-то не ответил. Он сидел рядом с Серпилиным и молча смотрел в
одну точку. Потом, когда машина остановилась и Серпилин первым осторожно вылез из нее,
Максимов, не вылезая, протянул ему руку.
– Всех благ, Федор Федорович! Желаю скорее выписаться!
– А ты что?
– А я – будем считать – сбежал. Буду на фронт выпрашиваться. Говоря между нами, до
конца здоровым все равно уже не буду, а неделя дела не решает. Или вернут с позором, или
завтра же пошлют куда-нибудь.
Войдя к себе в палату, Серпилин застал там жену.
Валентина Егоровна была, ради праздника, в старом, давно памятном ему черном
шелковом платье, и Серпилин, как только она молча, поджав губы, встала ему навстречу,
понял и что она здесь давно, и что уже несколько часов сердита на него.
– И все твой Максимов, я знаю, – сказала Валентина Егоровна, идя навстречу
Серпилину. – Знает кошка, чье мясо съела! Где он? Боится мне на глаза показаться?
Она уже поняла, что ради праздника все равно придется простить мужа, и лишь
поэтому заговорила первая.
– Ищи-свищи! – сказал Серпилин. – Развернулся во дворе и на фронт уехал.
– Да кто же пустит его? Ему выписка только в ту пятницу.
– Говорит, пустят.
– Может, и ты так собираешься?
– Там посмотрим!..
– Я передачу слышала, – сказала Валентина Егоровна, – только не сразу поняла, что это
Сталин говорит. Не знаю почему – радио было все время включено, а передачу с середины
речи начали…
Серпилин удивленно пожал плечами. Они оба не знали и не могли знать, что сначала,
из-за опасения налета немецкой авиации, было решено ничего не передавать в эфир до
окончания парада. И только в самый последний момент, уже подходя к микрофону, Сталин
поглядел на небо, с которого густо повалил снег, и отдал приказ включить все радиостанции.
Но пока этот приказ был передан и исполнен, прошло еще несколько минут…