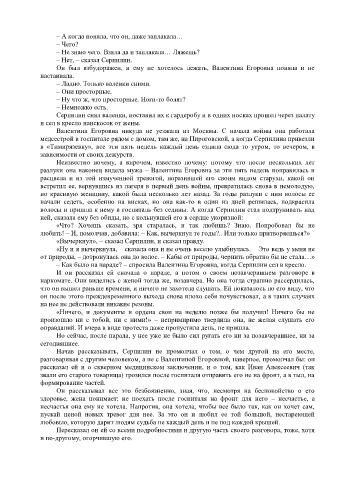Page 210 - Живые и мертвые
P. 210
– А когда поняла, что он, даже заплакала…
– Чего?
– Не знаю чего. Взяла да и заплакала… Ляжешь?
– Нет, – сказал Серпилин.
Он был взбудоражен, и ему не хотелось лежать, Валентина Егоровна поняла и не
настаивала.
– Ладно. Только валенки сними.
– Они просторные.
– Ну что ж, что просторные. Ноги-то болят?
– Немножко есть.
Серпилин снял валенки, поставил их к гардеробу и в одних носках прошел через палату
и сел в кресло наискосок от жены.
Валентина Егоровна никуда не уезжала из Москвы. С начала войны она работала
медсестрой в госпитале рядом с домом, там же, на Пироговской, а когда Серпилина привезли
в «Тимирязевку», все эти пять недель каждый день ездила сюда то утром, то вечером, в
зависимости от своих дежурств.
Неизвестно почему, а впрочем, известно почему: потому что после нескольких лет
разлуки она наконец видела мужа – Валентина Егоровна за эти пять недель поправилась и
расцвела и из той измученной тревогой, поразившей его своим видом старухи, какой он
встретил ее, вернувшись из лагеря в первый день войны, превратилась снова в немолодую,
но красивую женщину, какой была несколько лет назад. За годы разлуки с ним волосы ее
начали седеть, особенно на висках, но она как-то в один из дней решилась, подкрасила
волосы и пришла к нему в госпиталь без седины. А когда Серпилин стал подтрунивать над
ней, сказала ему без обиды, но с кольнувшей его в сердце укоризной:
«Что? Хочешь сказать, зря старалась, и так любишь? Знаю. Попробовал бы не
любить! – И, помолчав, добавила: – Как, вычеркнул те годы?.. Или только притворяешься?»
«Вычеркнул», – сказал Серпилин, и сказал правду.
«Ну и я вычеркнула, – сказала она и не очень весело улыбнулась. – Это ведь у меня не
от природы, – дотронулась она до волос. – Кабы от природы, чернить обратно бы не стала…»
– Как было на параде? – спросила Валентина Егоровна, когда Серпилин сел в кресло.
И он рассказал ей сначала о параде, а потом о своем позавчерашнем разговоре в
наркомате. Они виделись с женой тогда же, позавчера. Но она тогда страшно рассердилась,
что он вышел раньше времени, и ничего не захотела слушать. Ей показалось по его виду, что
он после этого преждевременного выхода снова плохо себя почувствовал, а в таких случаях
на нее не действовали никакие резоны.
«Ничего, и документы и ордена свои на неделю позже бы получил! Ничего бы не
произошло ни с тобой, ни с ними!» – непримиримо твердила она, не желая слушать его
оправданий. И вчера в виде протеста даже пропустила день, не пришла.
Но сейчас, после парада, у нее уже не было сил ругать его ни за позавчерашнее, ни за
сегодняшнее.
Начав рассказывать, Серпилин не промолчал о том, о чем другой на его месте,
разговаривая с другим человеком, а не с Валентиной Егоровной, наверное, промолчал бы: он
рассказал ей и о скверном медицинском заключении, и о том, как Иван Алексеевич (так
звали его старого товарища) грозился после госпиталя отправить его не на фронт, а в тыл, на
формирование частей.
Он рассказывал все это безбоязненно, зная, что, несмотря на беспокойство о его
здоровье, жена понимает: не поехать после госпиталя на фронт для него – несчастье, а
несчастья она ему не хотела. Напротив, она хотела, чтобы все было так, как он хочет сам,
пускай ценой новых тревог для нее. За это он и любил ее той большой, нестареющей
любовью, которую дарит людям судьба не каждый день и не под каждой крышей.
Пересказал он ей со всеми подробностями и другую часть своего разговора, тоже, хотя
и по-другому, огорчившую его.