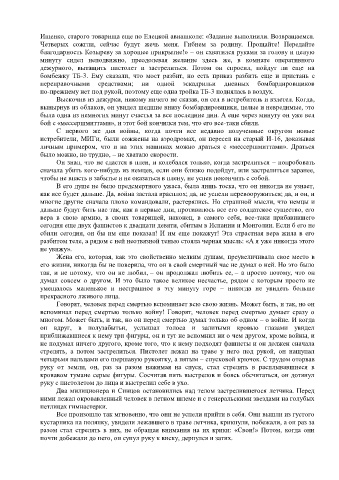Page 27 - Живые и мертвые
P. 27
Ищенко, старого товарища еще по Елецкой авиашколе: «Задание выполнили. Возвращаемся.
Четверых сожгли, сейчас будут жечь меня. Гибнем за родину. Прощайте! Передайте
благодарность Козыреву за хорошее прикрытие!» – он схватился руками за голову и целую
минуту сидел неподвижно, преодолевая желание здесь же, в комнате оперативного
дежурного, вытащить пистолет и застрелиться. Потом он спросил, пойдут ли еще на
бомбежку ТБ-3. Ему сказали, что мост разбит, но есть приказ разбить еще и пристань с
переправочными средствами; ни одной эскадрильи дневных бомбардировщиков
по-прежнему нет под рукой, поэтому еще одна тройка ТБ-3 поднялась в воздух.
Выскочив из дежурки, никому ничего не сказав, он сел в истребитель и взлетел. Когда,
вынырнув из облаков, он увидел шедшие внизу бомбардировщики, целые и невредимые, это
была одна из немногих минут счастья за все последние дни. А еще через минуту он уже вел
бой с «мессершмиттами», и этот бой кончился тем, что его все-таки сбили.
С первого же дня войны, когда почти все недавно полученные округом новые
истребители, МИГи, были сожжены на аэродромах, он пересел на старый И-16, доказывая
личным примером, что и на этих машинах можно драться с «мессершмиттами». Драться
было можно, но трудно, – не хватало скорости.
Он знал, что не сдастся в плен, и колебался только, когда застрелиться – попробовать
сначала убить кого-нибудь из немцев, если они близко подойдут, или застрелиться заранее,
чтобы не впасть в забытье и не оказаться в плену, не успев покончить с собой.
В его душе не было предсмертного ужаса, была лишь тоска, что он никогда не узнает,
как все будет дальше. Да, война застала врасплох; да, не успели перевооружиться; да, и он, и
многие другие сначала плохо командовали, растерялись. Но страшной мысли, что немцы и
дальше будут бить нас так, как в первые дни, противилось все его солдатское существо, его
вера в свою армию, в своих товарищей, наконец, в самого себя, все-таки прибавившего
сегодня еще двух фашистов к двадцати девяти, сбитым в Испании и Монголии. Если б его не
сбили сегодня, он бы им еще показал! И им еще покажут! Эта страстная вера жила в его
разбитом теле, а рядом с ней неотвязной тенью стояла черная мысль: «А я уже никогда этого
не увижу».
Жена его, которая, как это свойственно мелким душам, преувеличивала свое место в
его жизни, никогда бы не поверила, что он в свой смертный час не думал о ней. Но это было
так, и не потому, что он не любил, – он продолжал любить ее, – а просто потому, что он
думал совсем о другом. И это было такое великое несчастье, рядом с которым просто не
умещалось маленькое и нестрашное в эту минуту горе – никогда не увидеть больше
прекрасного лживого лица.
Говорят, человек перед смертью вспоминает всю свою жизнь. Может быть, и так, но он
вспоминал перед смертью только войну! Говорят, человек перед смертью думает сразу о
многом. Может быть, и так, но он перед смертью думал только об одном – о войне. И когда
он вдруг, в полузабытьи, услышал голоса и залитыми кровью глазами увидел
приближавшиеся к нему три фигуры, он и тут не вспомнил ни о чем другом, кроме войны, и
не подумал ничего другого, кроме того, что к нему подходят фашисты и он должен сначала
стрелять, а потом застрелиться. Пистолет лежал на траве у него под рукой, он нащупал
четырьмя пальцами его шершавую рукоятку, а пятым – спусковой крючок. С трудом оторвав
руку от земли, он, раз за разом нажимая на спуск, стал стрелять в расплывавшиеся в
кровавом тумане серые фигуры. Сосчитав пять выстрелов и боясь обсчитаться, он дотянул
руку с пистолетом до лица и выстрелил себе в ухо.
Два милиционера и Синцов остановились над телом застрелившегося летчика. Перед
ними лежал окровавленный человек в летном шлеме и с генеральскими звездами на голубых
петлицах гимнастерки.
Все произошло так мгновенно, что они не успели прийти в себя. Они вышли из густого
кустарника на полянку, увидели лежавшего в траве летчика, крикнули, побежали, а он раз за
разом стал стрелять в них, не обращая внимания на их крики: «Свои!» Потом, когда они
почти добежали до него, он сунул руку к виску, дернулся и затих.