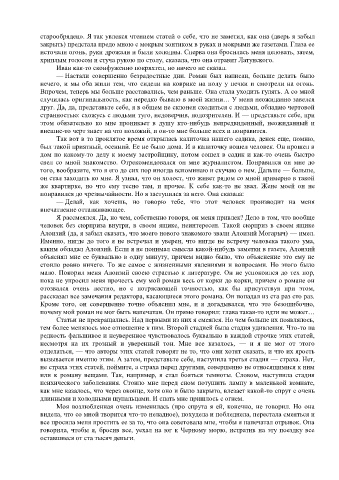Page 77 - Мастер и Маргарита
P. 77
старообрядец». Я так увлекся чтением статей о себе, что не заметил, как она (дверь я забыл
закрыть) предстала предо мною с мокрым зонтиком в руках и мокрыми же газетами. Глаза ее
источали огонь, руки дрожали и были холодны. Сперва она бросилась меня целовать, затем,
хриплым голосом и стуча рукою по столу, сказала, что она отравит Латунского.
Иван как-то сконфуженно покряхтел, но ничего не сказал.
— Настали совершенно безрадостные дни. Роман был написан, больше делать было
нечего, и мы оба жили тем, что сидели на коврике на полу у печки и смотрели на огонь.
Впрочем, теперь мы больше расставались, чем раньше. Она стала уходить гулять. А со мной
случилась оригинальность, как нередко бывало в моей жизни… У меня неожиданно завелся
друг. Да, да, представьте себе, я в общем не склонен сходиться с людьми, обладаю чертовой
странностью: схожусь с людьми туго, недоверчив, подозрителен. И — представьте себе, при
этом обязательно ко мне проникает в душу кто-нибудь непредвиденный, неожиданный и
внешне-то черт знает на что похожий, и он-то мне больше всех и понравится.
Так вот в то проклятое время открылась калиточка нашего садика, денек еще, помню,
был такой приятный, осенний. Ее не было дома. И в калиточку вошел человек. Он прошел в
дом по какому-то делу к моему застройщику, потом сошел в садик и как-то очень быстро
свел со мной знакомство. Отрекомендовался он мне журналистом. Понравился он мне до
того, вообразите, что я его до сих пор иногда вспоминаю и скучаю о нем. Дальше — больше,
он стал заходить ко мне. Я узнал, что он холост, что живет рядом со мной примерно в такой
же квартирке, но что ему тесно там, и прочее. К себе как-то не звал. Жене моей он не
понравился до чрезвычайности. Но я заступился за него. Она сказала:
— Делай, как хочешь, но говорю тебе, что этот человек производит на меня
впечатление отталкивающее.
Я рассмеялся. Да, но чем, собственно говоря, он меня привлек? Дело в том, что вообще
человек без сюрприза внутри, в своем ящике, неинтересен. Такой сюрприз в своем ящике
Алоизий (да, я забыл сказать, что моего нового знакомого звали Алоизий Могарыч) — имел.
Именно, нигде до того я не встречал и уверен, что нигде не встречу человека такого ума,
каким обладал Алоизий. Если я не понимал смысла какой-нибудь заметки в газете, Алоизий
объяснял мне ее буквально в одну минуту, причем видно было, что объяснение это ему не
стоило ровно ничего. То же самое с жизненными явлениями и вопросами. Но этого было
мало. Покорил меня Алоизий своею страстью к литературе. Он не успокоился до тех пор,
пока не упросил меня прочесть ему мой роман весь от корки до корки, причем о романе он
отозвался очень лестно, но с потрясающей точностью, как бы присутствуя при этом,
рассказал все замечания редактора, касающиеся этого романа. Он попадал из ста раз сто раз.
Кроме того, он совершенно точно объяснил мне, и я догадывался, что это безошибочно,
почему мой роман не мог быть напечатан. Он прямо говорил: глава такая-то идти не может…
Статьи не прекращались. Над первыми из них я смеялся. Но чем больше их появлялось,
тем более менялось мое отношение к ним. Второй стадией была стадия удивления. Что-то на
редкость фальшивое и неуверенное чувствовалось буквально в каждой строчке этих статей,
несмотря на их грозный и уверенный тон. Мне все казалось, — и я не мог от этого
отделаться, — что авторы этих статей говорят не то, что они хотят сказать, и что их ярость
вызывается именно этим. А затем, представьте себе, наступила третья стадия — страха. Нет,
не страха этих статей, поймите, а страха перед другими, совершенно не относящимися к ним
или к роману вещами. Так, например, я стал бояться темноты. Словом, наступила стадия
психического заболевания. Стоило мне перед сном потушить лампу в маленькой комнате,
как мне казалось, что через оконце, хотя оно и было закрыто, влезает какой-то спрут с очень
длинными и холодными щупальцами. И спать мне пришлось с огнем.
Моя возлюбленная очень изменилась (про спрута я ей, конечно, не говорил. Но она
видела, что со мной творится что-то неладное), похудела и побледнела, перестала смеяться и
все просила меня простить ее за то, что она советовала мне, чтобы я напечатал отрывок. Она
говорила, чтобы я, бросив все, уехал на юг к Черному морю, истратив на эту поездку все
оставшиеся от ста тысяч деньги.