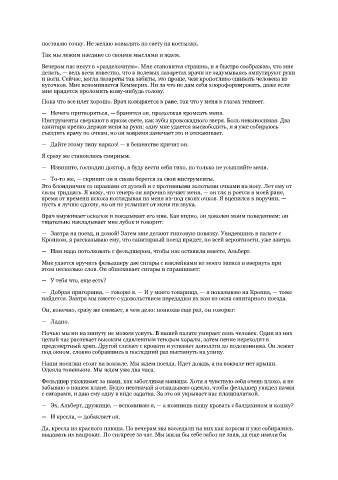Page 89 - На западном фронте без перемен
P. 89
поставлю точку. Не желаю ковылять по свету на костылях.
Так мы лежим наедине со своими мыслями и ждем.
Вечером нас несут в «разделочную». Мне становится страшно, и я быстро соображаю, что мне
делать, — ведь всем известно, что в полевых лазаретах врачи не задумываясь ампутируют руки
и ноги. Сейчас, когда лазареты так забиты, это проще, чем кропотливо сшивать человека из
кусочков. Мне вспоминается Кеммерих. Ни за что не дам себя хлороформировать, даже если
мне придется проломить кому-нибудь голову.
Пока что все идет хорошо. Врач ковыряется в ране, так что у меня в глазах темнеет.
— Нечего притворяться, — бранится он, продолжая кромсать меня.
Инструменты сверкают в ярком свете, как зубы кровожадного зверя. Боль невыносимая. Два
санитара крепко держат меня за руки: одну мне удается высвободить, и я уже собираюсь
съездить врачу по очкам, но он вовремя замечает это и отскакивает.
— Дайте этому типу наркоз! — в бешенстве кричит он.
Я сразу же становлюсь смирным.
— Извините, господин доктор, я буду вести себя тихо, но только не усыпляйте меня.
— То-то же, — скрипит он и снова берется за свои инструменты.
Это блондинчик со шрамами от дуэлей и с противными золотыми очками на носу. Лет ему от
силы тридцать. Я вижу, что теперь он нарочно мучает меня, — он так и роется в моей ране,
время от времени искоса поглядывая на меня из-под своих очков. Я вцепился в поручни, —
пусть я лучше сдохну, но он не услышит от меня ни звука.
Врач выуживает осколок и показывает его мне. Как видно, он доволен моим поведением: он
тщательно накладывает мне лубок и говорит:
— Завтра на поезд, и домой! Затем мне делают гипсовую повязку. Увидевшись в палате с
Кроппом, я рассказываю ему, что санитарный поезд придет, по всей вероятности, уже завтра.
— Нам надо потолковать с фельдшером, чтобы нас оставили вместе, Альберт.
Мне удается вручить фельдшеру две сигары с наклейками из моего запаса и ввернуть при
этом несколько слов. Он обнюхивает сигары и спрашивает:
— У тебя что, еще есть?
— Добрая пригоршня, — говорю я. — И у моего товарища, — я показываю на Кроппа, — тоже
найдется. Завтра мы вместе с удовольствием передадим их вам из окна санитарного поезда.
Он, конечно, сразу же смекает, в чем дело: понюхав еще раз, он говорит:
— Ладно.
Ночью мы ни на минуту не можем уснуть. В нашей палате умирает семь человек. Один из них
целый час распевает высоким сдавленным тенором хоралы, затем пение переходит в
предсмертный хрип. Другой слезает с кровати и успевает доползти до подоконника. Он лежит
под окном, словно собравшись в последний раз выглянуть на улицу.
Наши носилки стоят на вокзале. Мы ждем поезда. Идет дождь, а на вокзале нет крыши.
Одеяла тоненькие. Мы ждем уже два часа.
Фельдшер ухаживает за нами, как заботливая мамаша. Хотя я чувствую себя очень плохо, я не
забываю о нашем плане. Будто невзначай я откидываю одеяло, чтобы фельдшер увидел пачки
с сигарами, и даю ему одну в виде задатка. За это он укрывает нас плащпалаткой.
— Эх, Альберт, дружище, — вспоминаю я, — а помнишь нашу кровать с балдахином и кошку?
— И кресла, — добавляет он.
Да, кресла из красного плюша. По вечерам мы восседали на них как короли и уже собирались
выдавать их напрокат. По сигарете за час. Мы жили бы себе забот не зная, да еще имели бы