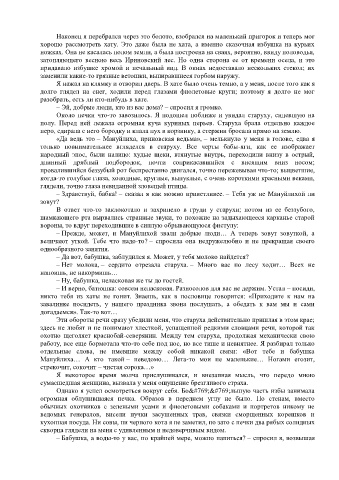Page 7 - Олеся
P. 7
Наконец я перебрался через это болото, взобрался на маленький пригорок и теперь мог
хорошо рассмотреть хату. Это даже была не хата, а именно сказочная избушка на курьих
ножках. Она не касалась полом земли, а была построена на сваях, вероятно, ввиду половодья,
затопляющего весною весь Ириновский лес. Но одна сторона ее от времени осела, и это
придавало избушке хромой и печальный вид. В окнах недоставало нескольких стекол; их
заменили какие-то грязные ветошки, выпиравшиеся горбом наружу.
Я нажал на клямку и отворил дверь. В хате было очень темно, а у меня, после того как я
долго глядел на снег, ходили перед глазами фиолетовые круги; поэтому я долго не мог
разобрать, есть ли кто-нибудь в хате.
– Эй, добрые люди, кто из вас дома? – спросил я громко.
Около печки что-то завозилось. Я подошел поближе и увидал старуху, сидевшую на
полу. Перед ней лежала огромная куча куриных перьев. Старуха брала отдельно каждое
перо, сдирала с него бородку и клала пух в корзинку, а стержни бросала прямо на землю.
«Да ведь это – Мануйлиха, ириновская ведьма», – мелькнуло у меня в голове, едва я
только повнимательнее вгляделся в старуху. Все черты бабы-яги, как ее изображает
народный эпос, были налицо: худые щеки, втянутые внутрь, переходили внизу в острый,
длинный дряблый подбородок, почти соприкасавшийся с висящим вниз носом;
провалившийся беззубый рот беспрестанно двигался, точно пережевывая что-то; выцветшие,
когда-то голубые глаза, холодные, круглые, выпуклые, с очень короткими красными веками,
глядели, точно глаза невиданной зловещей птицы.
– Здравствуй, бабка! – сказал я как можно приветливее. – Тебя уж не Мануйлихой ли
зовут?
В ответ что-то заклокотало и захрипело в груди у старухи; потом из ее беззубого,
шамкающего рта вырвались странные звуки, то похожие на задыхающееся карканье старой
вороны, то вдруг переходившие в сиплую обрывающуюся фистулу:
– Прежде, может, и Мануйлихой звали добрые люди… А теперь зовут зовуткой, а
величают уткой. Тебе что надо-то? – спросила она недружелюбно и не прекращая своего
однообразного занятия.
– Да вот, бабушка, заблудился я. Может, у тебя молоко найдется?
– Нет молока, – сердито отрезала старуха. – Много вас по лесу ходит… Всех не
напоишь, не накормишь…
– Ну, бабушка, неласковая же ты до гостей.
– И верно, батюшка: совсем неласковая. Разносолов для вас не держим. Устал – посиди,
никто тебя из хаты не гонит. Знаешь, как в пословице говорится: «Приходите к нам на
завалинке посидеть, у нашего праздника звона послушать, а обедать к вам мы и сами
догадаемся». Так-то вот…
Эти обороты речи сразу убедили меня, что старуха действительно пришлая в этом крае;
здесь не любят и не понимают хлесткой, уснащенной редкими словцами речи, которой так
охотно щеголяет краснобай-северянин. Между тем старуха, продолжая механически свою
работу, все еще бормотала что-то себе под нос, но все тише и невнятнее. Я разбирал только
отдельные слова, не имевшие между собой никакой связи: «Вот тебе и бабушка
Мануйлиха… А кто такой – неведомо… Лета-то мои не маленькие… Ногами егозит,
стрекочит, сокочит – чистая сорока…»
Я некоторое время молча прислушивался, и внезапная мысль, что передо мною
сумасшедшая женщина, вызвала у меня ощущение брезгливого страха.
Однако я успел осмотреться вокруг себя. Бо́́льшую часть избы занимала
огромная облупившаяся печка. Образов в переднем углу не было. По стенам, вместо
обычных охотников с зелеными усами и фиолетовыми собаками и портретов никому не
ведомых генералов, висели пучки засушенных трав, связки сморщенных корешков и
кухонная посуда. Ни совы, ни черного кота я не заметил, но зато с печки два рябых солидных
скворца глядели на меня с удивленным и недоверчивым видом.
– Бабушка, а воды-то у вас, по крайней мере, можно напиться? – спросил я, возвышая