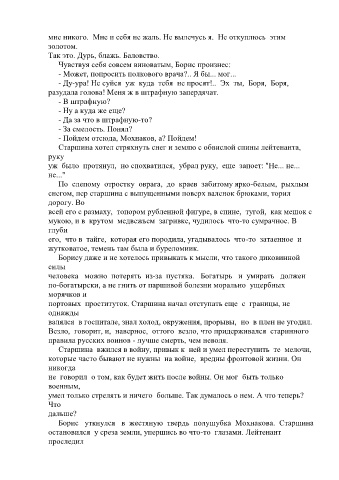Page 68 - Пастух и пастушка
P. 68
мне никого. Мне и себя не жаль. Не вылечусь я. Не откуплюсь этим
золотом.
Так это. Дурь, блажь. Баловство.
Чувствуя себя совсем виноватым, Борис произнес:
- Может, попросить полкового врача?.. Я бы... мог...
- Ду-ура! Не суйся уж куда тебя не просят!.. Эх ты, Боря, Боря,
разудала голова! Меня ж в штрафную запердячат.
- В штрафную?
- Ну а куда же еще?
- Да за что в штрафную-то?
- За смелость. Понял?
- Пойдем отсюда, Мохнаков, а? Пойдем!
Старшина хотел стряхнуть снег и землю с обвислой спины лейтенанта,
руку
уж было протянул, но спохватился, убрал руку, еще запоет: "Не... не...
не..."
По слепому отростку оврага, до краев забитому ярко-белым, рыхлым
снегом, пер старшина с выпущенными поверх валенок брюками, торил
дорогу. Во
всей его с размаху, топором рубленной фигуре, в спине, тугой, как мешок с
мукою, и в крутом медвежьем загривке, чудилось что-то сумрачное. В
глуби
его, что в тайге, которая его породила, угадывалось что-то затаенное и
жутковатое, темень там была и буреломиик.
Борису даже и не хотелось привыкать к мысли, что такого диковинной
силы
человека можно потерять из-за пустяка. Богатырь и умирать должен
по-богатырски, а не гнить от паршивой болезни морально ущербных
морячков и
портовых проституток. Старшина начал отступать еще с границы, не
однажды
валялся в госпитале, знал холод, окружения, прорывы, но в плен не угодил.
Везло, говорит, и, наверное, оттого везло, что придерживался старинного
правила русских воинов - лучше смерть, чем неволя.
Старшина вжился в войну, привык к ней и умел переступить те мелочи,
которые часто бывают не нужны на войне, вредны фронтовой жизни. Он
никогда
не говорил о том, как будет жить после войны. Он мог быть только
военным,
умел только стрелять и ничего больше. Так думалось о нем. А что теперь?
Что
дальше?
Борис уткнулся в жестяную твердь полушубка Мохнакова. Старшина
остановился у среза земли, упершись во что-то глазами. Лейтенант
проследил