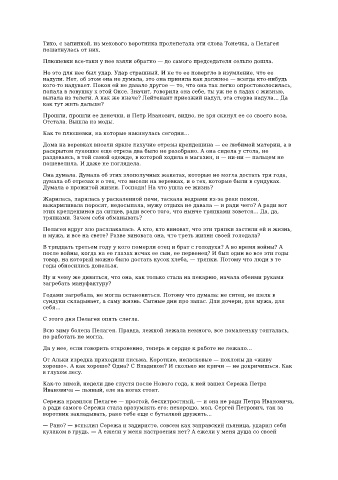Page 35 - Пелагея
P. 35
Тихо, с запинкой, из мехового воротника пролепетала эти слова Тонечка, а Пелагея
пошатнулась от них.
Плюшевки все-таки у нее взяли обратно — до самого председателя сельпо дошла.
Но это для нее был удар. Удар страшный. И не то ее повергло в изумление, что ее
надули. Нет, об этом она не думала, это она приняла как должное — всегда кто-нибудь
кого-то надувает. Покоя ей не давало другое — то, что она так легко опростоволосилась,
попала в ловушку к этой Оксе. Значит, говорила она себе, ты уж не в ладах с жизнью,
выпала из телеги. А как же иначе? Лейтенант приезжий надул, эта стерва надула… Да
как тут жить дальше?
Прошли, прошли ее денечки, и Петр Иванович, видно, не зря скинул ее со своего воза.
Отстала. Вышла из моды.
Как те плюшевки, на которые накинулась сегодня…
Дома на веревках висели яркие пахучие отрезы крепдешина — ее любимой материи, а в
раскрытом лукошке еще отреза два было не разобрано. А она сидела у стола, не
раздеваясь, в той самой одежде, в которой ходила в магазин, и — ни-ни — пальцем не
пошевелила. И даже не поглядела.
Она думала. Думала об этих злополучных жакетах, которые не могла достать три года,
думала об отрезах и о тех, что висели на веревках, и о тех, которые были в сундуках.
Думала о прожитой жизни. Господи! На что ушла ее жизнь?
Жарилась, парилась у раскаленной печи, таскала ведрами из-за реки помои,
выкармливала поросят, недосыпала, мужу отдыха не давала — и ради чего? А ради вот
этих крепдешинов да ситцев, ради всего того, что нынче тряпками зовется… Да, да,
тряпками. Зачем себя обманывать?
Пелагея вдруг зло расплакалась. А кто, кто виноват, что эти тряпки застили ей и жизнь,
и мужа, и все на свете? Разве виновата она, что треть жизни своей голодала?
В тридцать третьем году у кого померли отец и брат с голодухи? А во время войны? А
после войны, когда на ее глазах исчах ее сын, ее первенец? И был один во все эти годы
товар, на который можно было достать кусок хлеба, — тряпки. Потому что люди в те
годы обносились донельзя.
Ну и чему же дивиться, что она, как только стала на пекарню, начала обеими руками
загребать мануфактуру?
Годами загребала, не могла остановиться. Потому что думала: не ситец, не шелк в
сундуки складывает, а саму жизнь. Сытные дни про запас. Для дочери, для мужа, для
себя…
С этого дня Пелагея опять слегла.
Всю зиму болела Пелагея. Правда, лежкой лежала немного, все помаленьку топталась,
но работать не могла.
Да у нее, если говорить откровенно, теперь и сердце к работе не лежало…
От Альки изредка приходили письма. Короткие, неласковые — поклоны да «живу
хорошо». А как хорошо? Одна? С Владиком? И сколько ни кричи — не докричишься. Как
в глухом лесу.
Как-то зимой, недели две спустя после Нового года, к ней зашел Сережа Петра
Ивановича — пьяный, еле на ногах стоит.
Сережа нравился Пелагее — простой, бесхитростный, — и она не ради Петра Ивановича,
а ради самого Сережи стала вразумлять его: нехорошо, мол, Сергей Петрович, так за
воротник закладывать, рано тебе еще с бутылкой дружить…
— Рано? — вспылил Сережа и задиристо, совсем как заправский пьяница, ударил себя
кулаком в грудь. — А ежели у меня настроения нет? А ежели у меня душа со своей