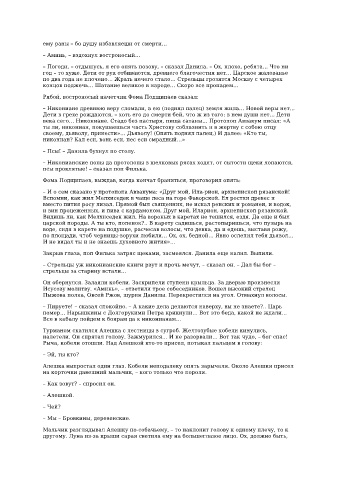Page 10 - Петр Первый
P. 10
ему раны – бо душу избавляеши от смерти…
– Аминь, – вздохнул востроносый…
– Погоди, – отдышусь, я его опять позову, – сказал Данила. – Ох, плохо, ребята… Что ни
год – то хуже. Дети от рук отбиваются, древнего благочестия нет… Царское жалованье
по два года не плочено… Жрать нечего стало… Стрельцы грозятся Москву с четырех
концов поджечь… Шатание великое в народе… Скоро все пропадем…
Рябой, востроносый начетчик Фома Подщипаев сказал:
– Никониане древнюю веру сломали, а ею (поднял палец) земля жила… Новой веры нет…
Дети в грехе рождаются, – хоть его до смерти бей, что ж из того: в нем души нет… Дети
века сего… Никониане. Стадо без пастыря, пища сатаны… Протопоп Аввакум писал: «А
ты ли, никониан, покушаешься часть Христову соблазнить и в жертву с собою отцу
своему, дьяволу, принести»… Дьяволу! (Опять поднял палец.) И далее: «Кто ты,
никониан? Кал еси, вонь еси, пес еси смрадный…»
– Псы! – Данила бухнул по столу.
– Никонианские попы да протопопы в шелковых рясах ходят, от сытости щеки лопаются,
псы проклятые! – сказал поп Филька.
Фома Подщипаев, выждав, когда кончат браниться, проговорил опять:
– И о сем сказано у протопопа Аввакума: «Друг мой, Ила-рион, архиепископ рязанской!
Вспомни, как жил Мелхиседек в чаще леса на горе Фаворской. Ел ростки древес и
вместо пития росу лизал. Прямой был священник, не искал ренских и романеи, и водок,
и вин процеженных, и пива с кардамоном. Друг мой, Иларион, архиепископ рязанской.
Видишь ли, как Мелхиседек жил. На вороных в каретах не тешился, ездя. Да еще и был
царской породы. А ты кто, попенок?.. В карету садишься, растопыришься, что пузырь на
воде, сидя в карете на подушке, расчесав волосы, что девка, да и едешь, выставя рожу,
по площади, чтоб черницы-ворухи любили… Ох, ох, бедной… Явно ослепил тебя дьявол…
И не видал ты и не знаешь духовного жития»…
Закрыв глаза, поп Филька затряс щеками, засмеялся. Данила еще налил. Выпили.
– Стрельцы уж никонианские книги рвут и прочь мечут, – сказал он. – Дал бы бог –
стрельцы за старину встали…
Он обернулся. Залаяли кобели. Заскрипели ступени крыльца. За дверью произнесли
Исусову молитву. «Аминь», – ответили трое собеседников. Вошел высокий стрелец
Пыжова полка, Овсей Ржов, шурин Данилы. Перекрестился на угол. Отмахнул волосы.
– Пируете! – сказал спокойно. – А какие дела делаются наверху, вы не знаете?.. Царь
помер… Нарышкины с Долгорукими Петра крикнули… Вот это беда, какой не ждали…
Все в кабалу пойдем к боярам да к никонианам…
Турманом скатился Алешка с лестницы в сугроб. Желтозубые кобели кинулись,
налетели. Он спрятал голову. Зажмурился… И не разорвали… Вот так чудо, – бог спас!
Рыча, кобели отошли. Над Алешкой кто-то присел, потыкал пальцем в голову:
– Эй, ты кто?
Алешка выпростал один глаз. Кобели неподалеку опять зарычали. Около Алешки присел
на корточки давешний мальчик, – кого только что пороли.
– Как зовут? – спросил он.
– Алешкой.
– Чей?
– Мы – Бровкины, деревенские.
Мальчик разглядывал Алешку по-собачьему, – то наклонит голову к одному плечу, то к
другому. Луна из-за крыши сарая светила ему на большеглазое лицо. Ох, должно быть,