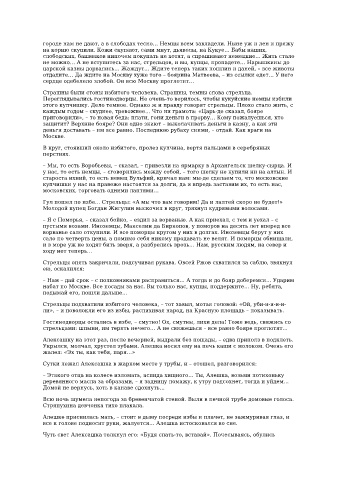Page 13 - Петр Первый
P. 13
городе нам не дают, а в слободах тесно… Немцы всем завладели. Ныне уж и лен и пряжу
на корню скупили. Кожи скупают, сами мнут, дьяволы, на Кукуе… Бабы наших,
слободских, башмаков нипочем покупать не хотят, а спрашивают немецкие… Жить стало
не можно… А не вступитесь за нас, стрельцов, и вы, купцы, пропадете… Нарышкины до
царской казны дорвались… Жаждут… Ждите теперь таких пошлин и даней, – все животы
отдадите… Да ждите на Москву хуже того – боярина Матвеева, – из ссылки едет… У него
сердце одебелело злобой. Он всю Москву проглотит…
Страшны были стоны избитого человека. Страшны, темны слова стрельца.
Переглядывались гостинодворцы. Не очень-то верилось, чтобы кукуйские немцы избили
этого купчишку. Дело темное. Однако ж и правду говорят стрельцы. Плохо стало жить, с
каждым годом – скуднее, тревожнее… Что ни грамота: «Царь-де сказал, бояре
приговорили», – то новая беда: плати, гони деньги в прорву… Кому пожалуешься, кто
защитит? Верхние бояре? Они одно знают – выколачивать деньги в казну, а как эти
деньги доставать – им все равно. Последнюю рубаху сними, – отдай. Как враги на
Москве.
В круг, стоявший около избитого, пролез купчина, вертя пальцами в серебряных
перстнях.
– Мы, то есть Воробьевы, – сказал, – привезли на ярмарку в Архангельск шелку-сырца. И
у нас, то есть немцы, – сговорились между собой, – того шелку не купили ни на алтын. И
староста ихний, то есть немец Вульфий, кричал нам: мы-де сделаем то, что московские
купчишки у нас на правеже настоятся за долги, да и впредь заставим их, то есть нас,
московских, торговать одними лаптями…
Гул пошел по избе… Стрельцы: «А мы что вам говорим! Да и лаптей скоро не будет!»
Молодой купец Богдан Жигулин выскочил в круг, тряхнул кудрявыми волосами.
– Я с Поморья, – сказал бойко, – ездил за ворванью. А как приехал, с тем и уехал – с
пустыми возами. Иноземцы, Макселин да Биркопов, у поморов на десять лет вперед все
ворванье сало откупили. И все поморцы кругом у них в долгах. Иноземцы берут у них
сало по четверть цены, а помимо себя никому продавать не велят. И поморцы обнищали,
и в море уж не ходят бить зверя, а разбрелись врозь… Нам, русским людям, на север и
ходу нет теперь…
Стрельцы опять закричали, подсучивая рукава. Овсей Ржов схватился за саблю, звякнул
ею, оскалился:
– Нам – дай срок – с полковниками расправиться… А тогда и до бояр доберемся… Ударим
набат по Москве. Все посады за нас. Вы только нас, купцы, поддержите… Ну, ребята,
подымай его, пошли дальше…
Стрельцы подхватили избитого человека, – тот завыл, мотая головой: «Ой, уби-и-и-и-и-
ли», – и поволокли его из избы, распихивая народ, на Красную площадь – показывать.
Гостинодворцы остались в избе, – смутно! Ох, смутны, лихи дела! Тоже ведь, свяжись со
стрельцами: шпыни, им терять нечего… А не свяжешься – все равно бояре проглотят…
Алексашку на этот раз, после вечерней, выдрали без пощады, – едва приполз в подклеть.
Укрылся, молчал, хрустел зубами. Алешка носил ему на печь каши с молоком. Очень его
жалел: «Эх ты, как тебя, паря…»
Сутки лежал Алексашка в жарком месте у трубы, и – отошел, разговорился:
– Этакого отца на колесе изломать, аспида хищного… Ты, Алешка, возьми потихоньку
деревянного масла за образами, – я задницу помажу, к утру подсохнет, тогда и уйдем…
Домой не вернусь, хоть в канаве сдохнуть…
Всю ночь шумела непогода за бревенчатой стеной. Выли в печной трубе домовые голоса.
Стряпухина девчонка тихо плакала.
Алешке приснилась мать, – стоит в дыму посреди избы и плачет, не зажмуривая глаз, и
все к голове подносит руки, жалуется… Алешка истосковался во сне.
Чуть свет Алексашка толкнул его: «Будя спать-то, вставай». Почесываясь, обулись