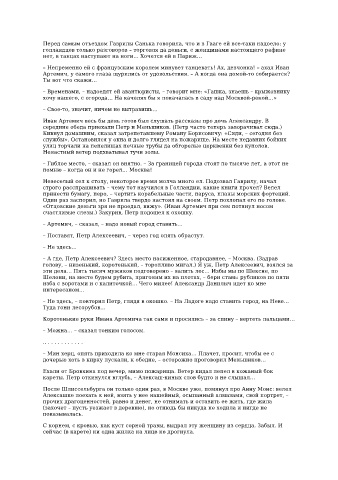Page 336 - Петр Первый
P. 336
Перед самым отъездом Гаврилы Санька говорила, что и в Гааге ей все-таки надоело: у
голландцев только разговоров – торговля да деньги, с женщинами настоящего рафине
нет, в танцах наступают на ноги… Хочется ей в Париж…
– Непременно ей с французским королем минувет танцевать! Ах, девчонка! – ахал Иван
Артемич, у самого глаза щурились от удовольствия. – А когда она домой-то собирается?
Ты вот что скажи…
– Временами, – надоедят ей авантюристы, – говорит мне: «Гашка, знаешь – крыжовнику
хочу нашего, с огорода… На качелях бы я покачалась в саду над Москвой-рекой…»
– Свое-то, значит, ничем не вытравишь…
Иван Артемич весь бы день готов был слушать рассказы про дочь Александру. В
середине обеда приехали Петр и Меньшиков. (Петр часто теперь заворачивал сюда.)
Кивнул домашним, сказал затрепетавшему Роману Борисовичу: «Сиди, – сегодня без
службы». Остановился у окна и долго глядел на пожарище. На месте недавних бойких
улиц торчали на пепелищах печные трубы да обгорелые церквенки без куполов.
Ненастный ветер подхватывал тучи золы.
– Гиблое место, – сказал он внятно. – За границей города стоят по тысяче лет, а этот не
помню – когда он и не горел… Москва!
Невеселый сел к столу, некоторое время молча много ел. Подозвал Гаврилу, начал
строго расспрашивать – чему тот научился в Голландии, какие книги прочел? Велел
принести бумагу, перо, – чертить корабельные части, паруса, планы морских фортеций.
Один раз заспорил, но Гаврила твердо настоял на своем. Петр похлопал его по голове.
«Отцовские деньги зря не проедал, вижу». (Иван Артемич при сем потянул носом
счастливые слезы.) Закурив, Петр подошел к окошку.
– Артемич, – сказал, – надо новый город ставить…
– Поставят, Петр Алексеевич, – через год опять обрастут.
– Не здесь…
– А где, Петр Алексеевич? Здесь место насиженное, стародавнее, – Москва. (Задрав
голову, – низенький, коротенький, – торопливо мигал.) Я уж, Петр Алексеевич, взялся за
эти дела… Пять тысяч мужиков подговорено – валить лес… Избы мы по Шексне, по
Шелони, на месте будем рубить, пригоним их на плотах, – бери ставь: рубликов по пяти
изба с воротами и с калиточкой… Чего милее! Александр Данилыч идет ко мне
интересаном…
– Не здесь, – повторил Петр, глядя в окошко. – На Ладоге надо ставить город, на Неве…
Туда гони лесорубов…
Коротенькие руки Ивана Артемича так сами и просились – за спину – вертеть пальцами…
– Можна… – сказал тонким голосом.
.. . . . . . . . . . . .
– Мин херц, опять приходила ко мне старая Монсиха… Плачет, просит, чтобы ее с
дочерью хоть в кирку пускали, к обедне, – осторожно проговорил Меньшиков…
Ехали от Бровкина под вечер, мимо пожарища. Ветер кидал пепел в кожаный бок
кареты. Петр откинулся вглубь, – Алексаш-киных слов будто и не слышал…
После Шлиссельбурга он только один раз, в Москве уже, помянул про Анну Монс: велел
Алексашке поехать к ней, взять у нее нашейный, осыпанный алмазами, свой портрет, –
прочих драгоценностей, равно и денег, не отнимать и оставить ее жить, где жила
(захочет – пусть уезжает в деревню), но отнюдь бы никуда не ходила и нигде не
показывалась.
С корнем, с кровью, как куст сорной травы, выдрал эту женщину из сердца. Забыл. И
сейчас (в карете) ни одна жилка на лице не дрогнула.