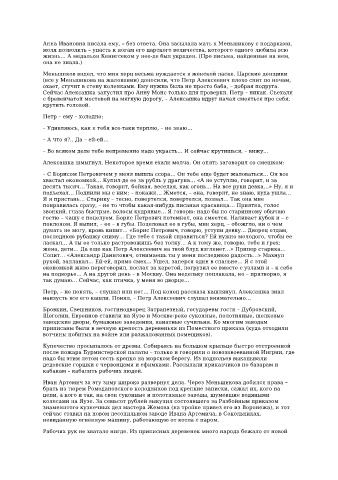Page 337 - Петр Первый
P. 337
Анна Ивановна писала ему, – без ответа. Она засылала мать к Меньшикову с подарками,
моля позволить – упасть к ногам его царского величества, которого одного любила всю
жизнь… А медальон Кенигсеком у нее-де был украден. (Про письма, найденные на нем,
она не знала.)
Меньшиков видел, что мин херц весьма нуждается в женской ласке. Царские денщики
(все у Меньшикова на жаловании) доносили, что Петр Алексеевич плохо спит по ночам,
охает, стучит в стену коленками. Ему нужна была не просто баба, – добрая подруга.
Сейчас Алексашка запустил про Анну Монс только для проверки. Петр – никак. Съехали
с бревенчатой мостовой на мягкую дорогу, – Алексашка вдруг начал смеяться про себя,
крутить головой.
Петр – ему – холодно:
– Удивляюсь, как я тебя все-таки терплю, – не знаю…
– А что я?.. Да – ей-ей…
– Во всяком деле тебе непременно надо украсть… И сейчас крутишься, – вижу…
Алексашка шмыгнул. Некоторое время ехали молча. Он опять заговорил со смешком:
– С Борисом Петровичем у меня вышла ссора… Он тебе еще будет жаловаться… Он все
хвастал економкой… Купил-де ее за рубль у драгуна… «А не уступлю, говорит, и за
десять тысяч… Такая, говорит, бойкая, веселая, как огонь… На все руки девка…» Ну, я и
подъехал… Подпили мы с ним: – покажи… Жмется, – она, говорит, не знаю, куда ушла…
Я и пристань… Старику – тесно, повертелся, повертелся, позвал… Так она мне
понравилась сразу, – не то чтобы какая-нибудь писаная красавица… Приятна, голос
звонкий, глаза быстрые, волосы кудрявые… Я говорю: надо бы по старинному обычаю
гостю – чашу с поцелуем. Борис Петрович потемнел, она смеется. Наливает кубок и – с
поклоном. Я выпил, – ее – в губы. Поцеловал ее в губы, мин херц, – обожгло, ни о чем
думать не могу, кровь кипит… «Борис Петрович, говорю, уступи девку… Дворец отдам,
последнюю рубашку сниму… Где тебе с такой справиться? Ей нужно молодого, чтобы ее
ласкал… А ты ее только растревожишь без толку… А к тому же, говорю, тебе и грех:
жена, дети… Да еще как Петр Алексеевич на твой блуд взглянет…» Припер старика…
Сопит… «Александр Данилович, отнимаешь ты у меня последнюю радость…» Махнул
рукой, заплакал… Ей-ей, прямо смех… Ушел, заперся один в спальне… Я с этой
економкой живо переговорил, послал за каретой, погрузил ее вместе с узлами и – к себе
на подворье… А на другой день – в Москву. Она недельку поплакала, но – притворно, я
так думаю… Сейчас, как птичка, у меня во дворце…
Петр, – не понять, – слушал или нет… Под конец рассказа кашлянул. Алексашка знал
наизусть все его кашли. Понял, – Петр Алексеевич слушал внимательно…
Бровкин, Свешников, гостинодворец Затрапезный, государевы гости – Дубровский,
Щеголин, Евреинов ставили на Яузе и Москве-реке суконные, полотняные, шелковые
заводские дворы, бумажные заведения, канатные сучильни. Ко многим заводам
приписаны были в вечную крепость деревеньки из Поместного приказа (куда отходили
вотчины побитых на войне или разжалованных помещиков).
Купечество просыпалось от дремы. Собираясь на большом крыльце быстро отстроенной
после пожара Бурмистерской палаты – только и говорили о новозавоеванной Ингрии, где
надо бы этим летом сесть крепко на морском берегу. Из подпольев выкапывали
дедовские горшки с червонцами и ефимками. Рассылали приказчиков по базарам и
кабакам – кабалить рабочих людей.
Иван Артемич за эту зиму широко развернул дела. Через Меньшикова добился права –
брать из тюрем Ромодановского колодников под крепкие записки, сажал их, кого на
цепи, а кого и так, на свои суконные и полотняные заводы, шумевшие водяными
колесами на Яузе. За семьсот рублей выкупил состоявшего за Разбойным приказом
знаменитого кузнечных дел мастера Жемова (на тройке привез его из Воронежа), и тот
сейчас ставил на новом лесопильном заводе Ивана Артемича, в Сокольниках,
невиданную огненную машину, работающую от котла с паром.
Рабочих рук не хватало нигде. Из приписных деревенек много народа бежало от новой