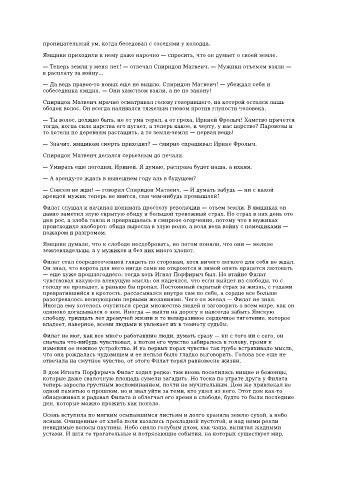Page 53 - Рассказы
P. 53
проницательный ум, когда беседовал с соседями у колодца.
Ямщики приходили к нему даже нарочно — спросить, что он думает о своей земле.
— Теперь земли у меня нет! — отвечал Спиридон Матвеич. — Мужики отъемом взяли —
в расплату за войну…
— Да ведь правое-то новых еще не вышло, Спиридон Матвеич! — убеждал себя и
собеседника ямщик. — Они хамством взяли, а не по закону!
Спиридон Матвеич мрачно осматривал голову говорившего, на которой остался лишь
ободок волос. Он всегда наливался тяжелым гневом против глупости человека.
— Ты волос, должно быть, не от ума терял, а от греха, Ириней Фролыч! Хамство прячется
тогда, когда сила царства его пугает, а теперь какое, к черту, у нас царство? Паровозы и
то хотели по деревням растащить, а то земля-земля — первая вещь!
— Значит, ямщикам смерть приходит? — смирно спрашивал Ирине Фролыч.
Спиридон Матвеич делался серьезным до печали.
— Умирать еще погодим, Ириней. Я думаю, расправа будет наша, а ихняя.
— А аренду-то ждать в нынешнем году аль в будущем?
— Совсем не жди! — говорил Спиридон Матвеич. — И думать забудь — ни с какой
арендой мужик теперь не явится, сам чем-нибудь промышляй!
Филат слушал и начинал понимать простоту революции — отъем земли. В ямщиках он
давно заметил злую скрытую обиду и большой тревожный страх. Но страх в них день ото
дня рос, а злоба таяла и превращалась в смирное огорчение, потому что в мужиках
происходило наоборот: обида выросла в злую волю, а воля вела войну с помещиками —
пожаром и разгромом.
Ямщики думали, что и слободе несдобровать, но потом поняли, что они — мелкие
землевладельцы, а у мужиков и без них много хлопот.
Филат стал сосредоточенней глядеть по сторонам, хотя ничего легкого для себя не ждал.
Он знал, что ворота для него нигде сами не откроются и зимой опять придется лютовать
— еще хуже прошлогоднего: тогда хоть Игнат Порфирыч был. Но втайне Филат
чувствовал какую-то влекущую мысль: он надеялся, что если выйдет из слободы, то с
голоду не пропадет, а раньше бы пропал. Постоянный скрытый страх за жизнь, с годами
превратившийся в кротость, рассасывался внутри сам по себе, а сердце все больше
разогревалось волнующими первыми желаниями. Чего он желал — Филат не знал.
Иногда ему хотелось очутиться среди множества людей и заговорить о всем мире, как он
одиноко догадывался о нем. Иногда — выйти на дорогу и навсегда забыть Ямскую
слободу, тридцать лет дремучей жизни и то невыразимое сердечное тяготение, которое
владеет, наверное, всеми людьми и увлекает их в темноту судьбы.
Филат не мог, как все много работавшие люди, думать сразу — ни с того ни с сего, он
сначала что-нибудь чувствовал, а потом его чувство забиралось в голову, громя и
изменяя ее нежное устройство. И на первых порах чувство так грубо встряхивало мысль,
что она рождалась чудовищем и ее нельзя было гладко выговорить. Голова все еще не
отвечала на смутное чувство, от этого Филат терял равновесие жизни.
В дом Игната Порфирыча Филат ходил редко: там вновь поселились нищие и беженцы,
которые даже свалочную площадь сумели загадить. Но тоска по утрате друга у Филата
теперь заросла грустным воспоминанием, почти не мучительным. Дом же привлекал не
одной памятью о прошлом, но и звал уйти за теми, кто ушел из него. Этот дом как-то
обнадеживал и радовал Филата и облегчал его время в слободе, будто то были последние
дни, которые можно прожить как попало.
Осень вступила по мягким осыпавшимся листьям и долго хранила землю сухой, а небо
ясным. Очищенные от хлеба поля казались прохладной пустотой, и над ними реяли
невидимые волосы паутины. Небо сияло голубым дном, как чаша, выпитая жадными
устами. И шли те трогательные и потрясающие события, на которых существует мир,