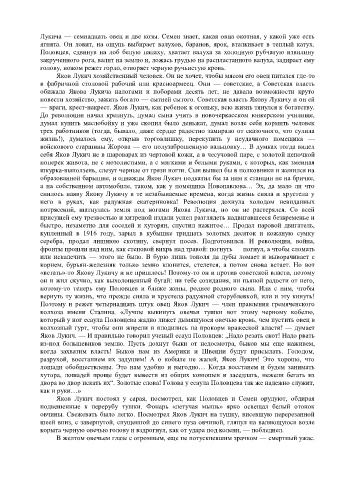Page 56 - Поднятая целина
P. 56
Лукича — семнадцать овец и две козы. Семен знает, какая овца окотная, у какой уже есть
ягнята. Он ловит, на ощупь выбирает валухов, баранов, ярок, вталкивает в теплый катух.
Половцев, сдвинув на лоб белую папаху, хватает валуха за холодную рубчатую извилину
закрученного рога, валит на землю и, ложась грудью на распластанного валуха, задирает ему
голову, ножом режет горло, отворяет черную ручьистую кровь.
Яков Лукич хозяйственный человек. Он не хочет, чтобы мясом его овец питался где-то
в фабричной столовой рабочий или красноармеец. Они — советские, а Советская власть
обижала Якова Лукича налогами и поборами десять лет, не давала возможности круто
повести хозяйство, зажить богато — сытней сытого. Советская власть Якову Лукичу и он ей
— враги, крест-накрест. Яков Лукич, как ребенок к огоньку, всю жизнь тянулся к богатству.
До революции начал крепнуть, думал сына учить в новочеркасском юнкерском училище,
думал купить маслобойку и уже скопил было деньжат, думал возле себя кормить человек
трех работников (тогда, бывало, даже сердце радостно замирало от сказочного, что сулила
жизнь!), думалось ему, открыв торговлишку, перекупить у неудачного помещика —
войскового старшины Жорова — его полузаброшенную вальцовку… В думках тогда видел
себя Яков Лукич не в шароварах из чертовой кожи, а в чесучовой паре, с золотой цепочкой
поперек живота, не с мозолистыми, а с мягкими и белыми руками, с которых, как змеиная
шкурка-выползень, слезут черные от грязи ногти. Сын вышел бы в полковники и женился на
образованной барышне, и однажды Яков Лукич подкатил бы за ним к станции не на бричке,
а на собственном автомобиле, таком, как у помещика Новопавлова… Эх, да мало ли что
снилось наяву Якову Лукичу в те незабываемые времена, когда жизнь сияла и хрустела у
него в руках, как радужная екатериновка! Революция дохнула холодом невиданных
потрясений, шатнулась земля под ногами Якова Лукича, но он не растерялся. Со всей
присущей ему трезвостью и хитрецой издали успел разглядеть надвигавшееся безвременье и
быстро, незаметно для соседей и хуторян, спустил нажитое… Продал паровой двигатель,
купленный в 1916 году, зарыл в кубышке тридцать золотых десяток и кожаную сумку
серебра, продал лишнюю скотину, свернул посев. Подготовился. И революция, война,
фронты прошли над ним, как степовой вихрь над травой: погнуть — погнул, а чтобы сломать
или искалечить — этого не было. В бурю лишь тополя да дубы ломает и выворачивает с
корнем, бурьян-железняк только земно клонится, стелется, а потом снова встает. Но вот
«встать»-то Якову Лукичу и не пришлось! Потому-то он и против советской власти, потому
он и жил скучно, как выхолощенный бугай: ни тебе созидания, ни пьяной радости от него,
потому-то теперь ему Половцев и ближе жены, роднее родного сына. Или с ним, чтобы
вернуть ту жизнь, что прежде сияла и хрустела радужной сторублевкой, или и эту кинуть!
Поэтому и режет четырнадцать штук овец Яков Лукич — член правления гремяченского
колхоза имени Сталина. «Лучше выкинуть овечьи тушки вот этому черному кобелю,
который у ног есаула Половцева жадно лижет дымящуюся овечью кровь, чем пустить овец в
колхозный гурт, чтобы они жирели и плодились на прокорм вражеской власти! — думает
Яков Лукич. — И правильно говорил ученый есаул Половцев: „Надо резать скот! Надо рвать
из-под большевиков землю. Пусть дохнут быки от недосмотра, быков мы еще наживем,
когда захватим власть! Быков нам из Америки и Швеции будут присылать. Голодом,
разрухой, восстанием их задушим! А о кобыле не жалей, Яков Лукич! Это хорошо, что
лошади обобществлены. Это нам удобно и выгодно… Когда восстанем и будем занимать
хутора, лошадей проще будет вывести из общих конюшен и заседлать, нежели бегать из
двора во двор искать их“. Золотые слова! Голова у есаула Половцева так же надежно служит,
как и руки…»
Яков Лукич постоял у сарая, посмотрел, как Половцев и Семен орудуют, обдирая
подвешенные к перерубу тушки. Фонарь «летучая мышь» ярко освещал белый отонок
овчины. Свежевать было легко. Посмотрел Яков Лукич на тушку, висевшую перерезанной
шеей вниз, с завернутой, спущенной до синего пуза овчиной, глянул на валяющуюся возле
корыта черную овечью голову и вздрогнул, как от удара под колени, — побледнел.
В желтом овечьем глазе с огромным, еще не потускневшим зрачком — смертный ужас.