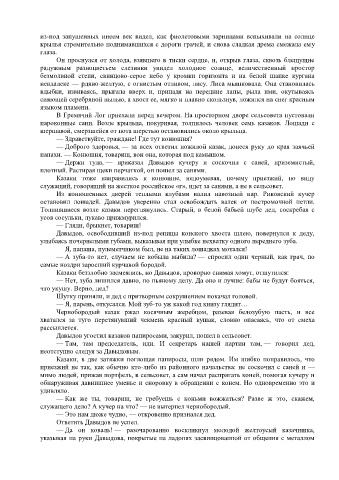Page 6 - Поднятая целина
P. 6
из-под запушенных инеем век видел, как фиолетовыми зарницами вспыхивали на солнце
крылья стремительно поднимавшихся с дороги грачей, и снова сладкая дрема смежала ему
глаза.
Он проснулся от холода, взявшего в тиски сердце, и, открыв глаза, сквозь блещущие
радужным разноцветьем слезинки увидел холодное солнце, величественный простор
безмолвной степи, свинцово-серое небо у кромки горизонта и на белой шапке кургана
невдалеке — рдяно-желтую, с огнистым отливом, лису. Лиса мышковала. Она становилась
вдыбки, извиваясь, прыгала вверх и, припадя на передние лапы, рыла ими, окутываясь
сияющей серебряной пылью, а хвост ее, мягко и плавно скользнув, ложился на снег красным
языком пламени.
В Гремячий Лог приехали перед вечером. На просторном дворе сельсовета пустовали
пароконные сани. Возле крыльца, покуривая, толпилось человек семь казаков. Лошади с
шершавой, смерзшейся от пота шерстью остановились около крыльца.
— Здравствуйте, граждане! Где тут конюшня?
— Доброго здоровья, — за всех ответил пожилой казак, донеся руку до края заячьей
папахи. — Конюшня, товарищ, вон она, которая под камышом.
— Держи туда, — приказал Давыдов кучеру и соскочил с саней, приземистый,
плотный. Растирая щеки перчаткой, он пошел за санями.
Казаки тоже направились к конюшне, недоумевая, почему приезжий, по виду
служащий, говорящий на жесткое российское «г», идет за санями, а не в сельсовет.
Из конюшенных дверей теплыми клубами валил навозный пар. Риковский кучер
остановил лошадей. Давыдов уверенно стал освобождать валек от постромочной петли.
Толпившиеся возле казаки переглянулись. Старый, в белой бабьей шубе дед, соскребая с
усов сосульки, лукаво прижмурился.
— Гляди, брыкнет, товарищ!
Давыдов, освободивший из-под репицы конского хвоста шлею, повернулся к деду,
улыбаясь почернелыми губами, выказывая при улыбке нехватку одного переднего зуба.
— Я, папаша, пулеметчиком был, не на таких лошадках мотался!
— А зуба-то нет, случаем не кобыла выбила? — спросил один черный, как грач, по
самые ноздри заросший курчавой бородой.
Казаки беззлобно засмеялись, но Давыдов, проворно снимая хомут, отшутился:
— Нет, зуба лишился давно, по пьяному делу. Да оно и лучше: бабы не будут бояться,
что укушу. Верно, дед?
Шутку приняли, и дед с притворным сокрушением покачал головой.
— Я, парень, откусался. Мой зуб-то уж какой год книзу глядит…
Чернобородый казак ржал косячным жеребцом, разевая белозубую пасть, и все
хватался за туго перетянувший чекмень красный кушак, словно опасаясь, что от смеха
рассыплется.
Давыдов угостил казаков папиросами, закурил, пошел в сельсовет.
— Там, там председатель, иди. И секретарь нашей партии там, — говорил дед,
неотступно следуя за Давыдовым.
Казаки, в две затяжки поглощая папиросы, шли рядом. Им шибко понравилось, что
приезжий не так, как обычно кто-либо из районного начальства: не соскочил с саней и —
мимо людей, прижав портфель, в сельсовет, а сам начал распрягать коней, помогая кучеру и
обнаруживая давнишнее уменье и сноровку в обращении с конем. Но одновременно это и
удивляло.
— Как же ты, товарищ, не гребуешь с коньми вожжаться? Разве ж это, скажем,
служащего дело? А кучер на что? — не вытерпел чернобородый.
— Это нам дюже чудно, — откровенно признался дед.
Ответить Давыдов не успел.
— Да он коваль! — разочарованно воскликнул молодой желтоусый казачишка,
указывая на руки Давыдова, покрытые на ладонях засвинцованной от общения с металлом