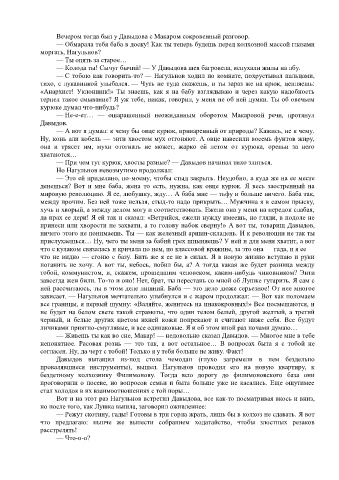Page 62 - Поднятая целина
P. 62
Вечером тогда был у Давыдова с Макаром сокровенный разговор.
— Обмарала тебя баба в доску! Как ты теперь будешь перед колхозной массой глазами
моргать, Нагульнов?
— Ты опять за старое…
— Колода ты! Сычуг бычий! — У Давыдова шея багровела, вспухали жилы на лбу.
— С тобою как говорить-то? — Нагульнов ходил по комнате, похрустывал пальцами,
тихо, с лукавинкой улыбался. — Чуть не туда скажешь, и ты зараз же на крюк, цепляешь:
«Анархист! Уклонщик!» Ты знаешь, как я на бабу взглядываю и через какую надобность
терпел такое смывание? Я уж тебе, никак, говорил, у меня не об ней думки. Ты об овечьем
курюке думал что-нибудь?
— Не-е-ет… — ошарашенный неожиданным оборотом Макаровой речи, протянул
Давыдов.
— А вот я думал: к чему бы овце курюк, приваренный от природы? Кажись, не к чему.
Ну, конь али кобель — энти хвостом мух отгоняют. А овце навесили восемь фунтов жиру,
она и трясет им, мухи отогнать не может, жарко ей летом от курюка, орепьи за него
хватаются…
— При чем тут курюк, хвосты разные? — Давыдов начинал тихо злиться.
Но Нагульнов невозмутимо продолжал:
— Это ей приделано, по-моему, чтобы стыд закрыть. Неудобно, а куда же на ее месте
денешься? Вот и мне баба, жена то есть, нужна, как овце курюк. Я весь заостренный на
мировую революцию. Я ее, любушку, жду… А баба мне — тьфу и больше ничего. Баба так,
между прочим. Без ней тоже нельзя, стыд-то надо прикрыть… Мужчина я в самом прыску,
хучь и хворый, а между делом могу и соответствовать. Ежели она у меня на передок слабая,
да прах ее дери! Я ей так и сказал: «Ветрийся, ежели нужду имеешь, но гляди, в подоле не
принеси или хворости не захвати, а то голову набок сверну!» А вот ты, товарищ Давыдов,
ничего этого не понимаешь. Ты — как железный аршин-складень. И к революции не так ты
прислухаешься… Ну, чего ты меня за бабий грех шпыняешь? У ней и для меня хватит, а вот
что с кулаком связалась и кричала по нем, по классовой вражине, за это она — гада, и я ее —
что не видно — сгоню с базу. Бить же я ее не в силах. Я в новую жизню вступаю и руки
поганить не хочу. А вот ты, небось, побил бы, а? А тогда какая же будет разница между
тобой, коммунистом, и, скажем, прошедшим человеком, каким-нибудь чиновником? Энти
завсегда жен били. То-то и оно! Нет, брат, ты перестань со мной об Лушке гутарить. Я сам с
ней рассчитаюсь, ты в этом деле лишний. Баба — это дело дюже серьезное! От нее многое
зависает. — Нагульнов мечтательно улыбнулся и с жаром продолжал: — Вот как поломаем
все границы, я первый шумну: «Валяйте, женитесь на инакокровных!» Все посмешаются, и
не будет на белом свете такой страмоты, что один телом белый, другой желтый, а третий
черный, и белые других цветом ихней кожи попрекают и считают ниже себя. Все будут
личиками приятно-смуглявые, и все одинаковые. Я и об этом иной раз ночами думаю…
— Живешь ты как во сне, Макар! — недовольно сказал Давыдов. — Многое мне в тебе
непонятное. Расовая рознь — это так, а вот остальное… В вопросах быта я с тобой не
согласен. Ну, да черт с тобой! Только я у тебя больше не живу. Факт!
Давыдов вытащил из-под стола чемодан (глухо загремели в нем бездельно
провалявшиеся инструменты), вышел. Нагульнов проводил его на новую квартиру, к
бездетному колхознику Филимонову. Тогда всю дорогу до филимоновского база они
проговорили о посеве, но вопросов семьи и быта больше уже не касались. Еще ощутимее
стал холодок в их взаимоотношениях с той поры…
Вот и на этот раз Нагульнов встретил Давыдова, все как-то посматривая вкось и вниз,
но после того, как Лушка вышла, заговорил оживленнее:
— Режут скотину, гады! Готовы в три горла жрать, лишь бы в колхоз не сдавать. Я вот
что предлагаю: нынче же вынести собранием ходатайство, чтобы злостных резаков
расстрелять!
— Что-о-о?