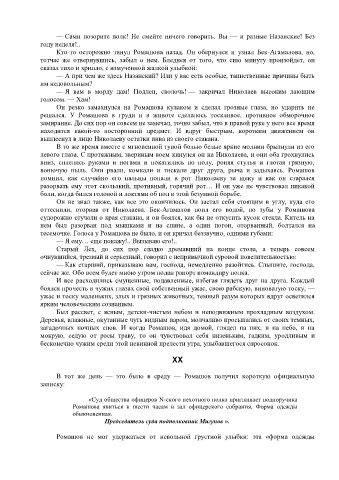Page 108 - Поединок
P. 108
— Сами позорите полк! Не смейте ничего говорить. Вы — и разные Назанские! Без
году неделя!..
Кто-то осторожно тянул Ромашова назад. Он обернулся и узнал Бек-Агамалова, но,
тотчас же отвернувшись, забыл о нем. Бледнея от того, что сию минуту произойдет, он
сказал тихо и хрипло, с измученной жалкой улыбкой:
— А при чем же здесь Назанский? Или у вас есть особые, таинственные причины быть
им недовольным?
— Я вам в морду дам! Подлец, сволочь! — закричал Николаев высоким лающим
голосом. — Хам!
Он резко замахнулся на Ромашова кулаком и сделал грозные глаза, но ударить не
решался. У Ромашова в груди и в животе сделалось тоскливое, противное обморочное
замирание. До сих пор он совсем не замечал, точно забыл, что в правой руке у него все время
находится какой-то посторонний предмет. И вдруг быстрым, коротким движением он
выплеснул в лицо Николаеву остатки пива из своего стакана.
В то же время вместе с мгновенной тупой болью белые яркие молнии брызнули из его
левого глаза. С протяжным, звериным воем кинулся он на Николаева, и они оба грохнулись
вниз, сплелись руками и ногами и покатились по полу, роняя стулья и глотая грязную,
вонючую пыль. Они рвали, комкали и тискали друг друга, рыча и задыхаясь. Ромашов
помнил, как случайно его пальцы попали в рот Николаеву за щеку и как он старался
разорвать ему этот скользкий, противный, горячий рот… И он уже не чувствовал никакой
боли, когда бился головой и локтями об пол в этой безумной борьбе.
Он не знал также, как все это окончилось. Он застал себя стоящим в углу, куда его
оттеснили, оторвав от Николаева. Бек-Агамалов поил его водой, по зубы у Ромашова
судорожно стучали о края стакана, и он боялся, как бы не откусить кусок стекла. Китель на
нем был разорван под мышками и на спине, а один погон, оторванный, болтался на
тесемочке. Голоса у Ромашова не было, и он кричал беззвучно, одними губами:
— Я ему… еще покажу!.. Вызываю его!..
Старый Лех, до сих пор сладко дремавший на конце стола, а теперь совсем
очнувшийся, трезвый и серьезный, говорил с непривычной суровой повелительностью:
— Как старший, приказываю вам, господа, немедленно разойтись. Слышите, господа,
сейчас же. Обо всем будет мною утром подан рапорт командиру полка.
И все расходились смущенные, подавленные, избегая глядеть друг на друга. Каждый
боялся прочесть в чужих глазах свой собственный ужас, свою рабскую, виноватую тоску, —
ужас и тоску маленьких, злых и грязных животных, темный разум которых вдруг осветился
ярким человеческим сознанием.
Был рассвет, с ясным, детски-чистым небом и неподвижным прохладным воздухом.
Деревья, влажные, окутанные чуть видным паром, молчаливо просыпались от своих темных,
загадочных ночных снов. И когда Ромашов, идя домой, глядел на них, и на небо, и на
мокрую, седую от росы траву, то он чувствовал себя низеньким, гадким, уродливым и
бесконечно чужим среди этой невинной прелести утра, улыбавшегося спросонок.
XX
В тот же день — это было в среду — Ромашов получил короткую официальную
записку:
«Суд общества офицеров N-ского пехотного полка приглашает подпоручика
Ромашова явиться к шести часам в зал офицерского собрания. Форма одежды
обыкновенная.
Председатель суда подполковник Мигунов ».
Ромашов не мог удержаться от невольной грустной улыбки: эта «форма одежды