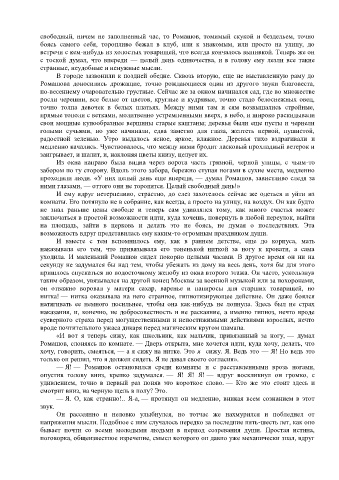Page 31 - Поединок
P. 31
свободный, ничем не заполненный час, то Ромашов, томимый скукой и бездельем, точно
боясь самого себя, торопливо бежал в клуб, или к знакомым, или просто на улицу, до
встречи с кем-нибудь из холостых товарищей, что всегда кончалось выпивкой. Теперь же он
с тоской думал, что впереди — целый день одиночества, и в голову ему лезли все такие
странные, неудобные и ненужные мысли.
В городе зазвонили к поздней обедне. Сквозь вторую, еще не выставленную раму до
Ромашова доносились дрожащие, точно рождающиеся один из другого звуки благовеста,
по-весеннему очаровательно грустные. Сейчас же за окном начинался сад, где во множестве
росли черешни, все белые от цветов, круглые и кудрявые, точно стадо белоснежных овец,
точно толпа девочек в белых платьях. Между ними там и сям возвышались стройные,
прямые тополи с ветками, молитвенно устремленными вверх, в небо, и широко раскидывали
свои мощные купообразные вершины старые каштаны; деревья были еще пусты и чернели
голыми сучьями, но уже начинали, едва заметно для глаза, желтеть первой, пушистой,
радостной зеленью. Утро выдалось ясное, яркое, влажное. Деревья тихо вздрагивали и
медленно качались. Чувствовалось, что между ними бродит ласковый прохладный ветерок и
заигрывает, и шалит, и, наклоняя цветы книзу, целует их.
Из окна направо была видна через ворота часть грязной, черной улицы, с чьим-то
забором по ту сторону. Вдоль этого забора, бережно ступая ногами в сухие места, медленно
проходили люди. «У них целый день еще впереди, — думал Ромашов, завистливо следя за
ними глазами, — оттого они не торопятся. Целый свободный день!»
И ему вдруг нетерпеливо, страстно, до слез захотелось сейчас же одеться и уйти из
комнаты. Его потянуло не в собрание, как всегда, а просто на улицу, на воздух. Он как будто
не знал раньше цены свободе и теперь сам удивлялся тому, как много счастья может
заключаться в простой возможности идти, куда хочешь, повернуть в любой переулок, выйти
на площадь, зайти в церковь и делать это не боясь, не думая о последствиях. Эта
возможность вдруг представилась ему каким-то огромным праздником души.
И вместе с тем вспомнилось ему, как в раннем детстве, еще до корпуса, мать
наказывала его тем, что привязывала его тоненькой ниткой за ногу к кровати, а сама
уходила. И маленький Ромашов сидел покорно целыми часами. В другое время он ни на
секунду не задумался бы над тем, чтобы убежать из дому на весь день, хотя бы для этого
пришлось спускаться по водосточному желобу из окна второго этажа. Он часто, ускользнув
таким образом, увязывался на другой конец Москвы за военной музыкой или за похоронами,
он отважно воровал у матери сахар, варенье и папиросы для старших товарищей, но
нитка! — нитка оказывала на него странное, гипнотизирующее действие. Он даже боялся
натягивать ее немного посильнее, чтобы она как-нибудь не лопнула. Здесь был не страх
наказания, и, конечно, не добросовестность и не раскаяние, а именно гипноз, нечто вроде
суеверного страха перед могущественными и непостижимыми действиями взрослых, нечто
вроде почтительного ужаса дикаря перед магическим кругом шамана.
«И вот я теперь сижу, как школьник, как мальчик, привязанный за ногу, — думал
Ромашов, слоняясь по комнате. — Дверь открыта, мне хочется идти, куда хочу, делать, что
хочу, говорить, смеяться, — а я сижу на нитке. Это я сижу. Я. Ведь это — Я! Но ведь это
только он решил, что я должен сидеть. Я не давал своего согласия».
— Я! — Ромашов остановился среди комнаты и с расставленными врозь ногами,
опустив голову вниз, крепко задумался. — Я! Я! Я! — вдруг воскликнул он громко, с
удивлением, точно в первый раз поняв это короткое слово. — Кто же это стоит здесь и
смотрит вниз, на черную щель в полу? Это.
— Я. О, как странно!.. Я-а, — протянул он медленно, вникая всем сознанием в этот
звук.
Он рассеянно и неловко улыбнулся, но тотчас же нахмурился и побледнел от
напряжения мысли. Подобное с ним случалось нередко за последние пять-шесть лет, как оно
бывает почти со всеми молодыми людьми в период созревания души. Простая истина,
поговорка, общеизвестное изречение, смысл которого он давно уже механически знал, вдруг