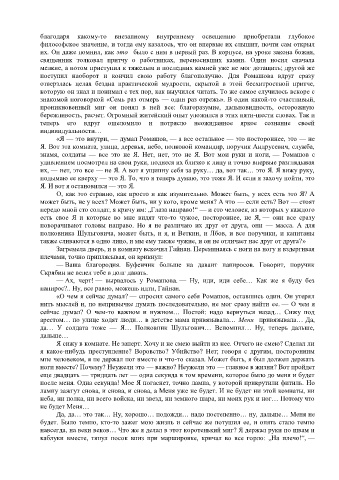Page 32 - Поединок
P. 32
благодаря какому-то внезапному внутреннему освещению приобретали глубокое
философское значение, и тогда ему казалось, что он впервые их слышит, почти сам открыл
их. Он даже помнил, как это было с ним в первый раз. В корпусе, на уроке закона божия,
священник толковал притчу о работниках, переносивших камни. Один носил сначала
мелкие, а потом приступил к тяжелым и последних камней уже не мог дотащить; другой же
поступил наоборот и кончил свою работу благополучно. Для Ромашова вдруг сразу
отверзлась целая бездна практической мудрости, скрытой в этой бесхитростной притче,
которую он знал и понимал с тех пор, как выучился читать. То же самое случилось вскоре с
знакомой поговоркой «Семь раз отмерь — один раз отрежь». В один какой-то счастливый,
проникновенный миг он понял в ней все: благоразумие, дальновидность, осторожную
бережливость, расчет. Огромный житейский опыт уложился в этих пяти-шести словах. Так и
теперь его вдруг ошеломило и потрясло неожиданное яркое сознание своей
индивидуальности…
«Я — это внутри, — думал Ромашов, — а все остальное — это постороннее, это — не
Я. Вот эта комната, улица, деревья, небо, полковой командир, поручик Андрусевич, служба,
знамя, солдаты — все это не Я. Нет, нет, это не Я. Вот мои руки и ноги, — Ромашов с
удивлением посмотрел на свои руки, поднеся их близко к лицу и точно впервые разглядывая
их, — нет, это все — не Я. А вот я ущипну себя за руку… да, вот так… это Я. Я вижу руку,
подымаю ее кверху — это Я. То, что я теперь думаю, это тоже Я. И если я захочу пойти, это
Я. И вот я остановился — это Я.
О, как это странно, как просто и как изумительно. Может быть, у всех есть это Я? А
может быть, не у всех? Может быть, ни у кого, кроме меня? А что — если есть? Вот — стоят
передо мной сто солдат, я кричу им: „Глаза направо!“ — и сто человек, из которых у каждого
есть свое Я и которые во мне видят что-то чужое, постороннее, не Я, — они все сразу
поворачивают головы направо. Но я не различаю их друг от друга, они — масса. А для
полковника Шульговича, может быть, и я, и Веткин, и Лбов, и все поручики, и капитаны
также сливаются в одно лицо, и мы ему также чужие, и он не отличает нас друг от друга?»
Загремела дверь, и в комнату вскочил Гайнан. Переминаясь с ноги на ногу и вздергивая
плечами, точно приплясывая, он крикнул:
— Ваша благородия. Буфенчик больше на даваит папиросов. Говорит, поручик
Скрябин не велел тебе в долг давать.
— Ах, черт! — вырвалось у Ромашова. — Ну, иди, иди себе… Как же я буду без
папирос?.. Ну, все равно, можешь идти, Гайнан.
«О чем я сейчас думал? — спросил самого себя Ромашов, оставшись один. Он утерял
нить мыслей и, по непривычке думать последовательно, не мог сразу найти ее. — О чем я
сейчас думал? О чем-то важном и нужном… Постой: надо вернуться назад… Сижу под
арестом… по улице ходят люди… в детстве мама привязывала… Меня привязывала… Да,
да… У солдата тоже — Я… Полковник Шульгович… Вспомнил… Ну, теперь дальше,
дальше…
Я сижу в комнате. Не заперт. Хочу и не смею выйти из нее. Отчего не смею? Сделал ли
я какое-нибудь преступление? Воровство? Убийство? Нет; говоря с другим, посторонним
мне человеком, я не держал ног вместе и что-то сказал. Может быть, я был должен держать
ноги вместе? Почему? Неужели это — важно? Неужели это — главное в жизни? Вот пройдет
еще двадцать — тридцать лет — одна секунда в том времени, которое было до меня и будет
после меня. Одна секунда! Мое Я погаснет, точно лампа, у которой прикрутили фитиль. Но
лампу зажгут снова, и снова, и снова, а Меня уже не будет. И не будет ни этой комнаты, ни
неба, ни полка, ни всего войска, ни звезд, ни земного шара, ни моих рук и ног… Потому что
не будет Меня…
Да, да… это так… Ну, хорошо… подожди… надо постепенно… ну, дальше… Меня не
будет. Было темно, кто-то зажег мою жизнь и сейчас же потушил ее, и опять стало темно
навсегда, на веки веков… Что же я делал в этот коротенький миг? Я держал руки по швам и
каблуки вместе, тянул носок вниз при маршировке, кричал во все горло: „На плечо!“, —