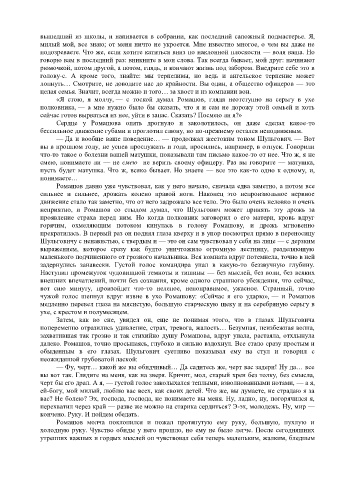Page 38 - Поединок
P. 38
вышедший из школы, и напивается в собрании, как последний сапожный подмастерье. Я,
милый мой, все знаю; от меня ничто не укроется. Мне известно многое, о чем вы даже не
подозреваете. Что же, если хотите катиться вниз по наклонной плоскости — воля ваша. Но
говорю вам в последний раз: вникните в мои слова. Так всегда бывает, мой друг: начинают
рюмочкой, потом другой, а потом, глядь, и кончают жизнь под забором. Внедрите себе это в
голову-с. А кроме того, знайте: мы терпеливы, но ведь и ангельское терпение может
лопнуть… Смотрите, не доводите нас до крайности. Вы один, а общество офицеров — это
целая семья. Значит, всегда можно и того… за хвост и из компании вон.
«Я стою, я молчу, — с тоской думал Ромашов, глядя неотступно на серьгу в ухе
полковника, — а мне нужно было бы сказать, что я и сам не дорожу этой семьей и хоть
сейчас готов вырваться из нее, уйти в запас. Сказать? Посмею ли я?»
Сердце у Ромашова опять дрогнуло и заколотилось, он даже сделал какое-то
бессильное движение губами и проглотил слюну, но по-прежнему остался неподвижным.
— Да и вообще ваше поведение… — продолжал жестоким тоном Шульгович. — Вот
вы в прошлом году, не успев прослужить и года, просились, например, в отпуск. Говорили
что-то такое о болезни вашей матушки, показывали там письмо какое-то от нее. Что ж, я не
смею, понимаете ли — не смею не верить своему офицеру. Раз вы говорите — матушка,
пусть будет матушка. Что ж, всяко бывает. Но знаете — все это как-то одно к одному, и,
понимаете…
Ромашов давно уже чувствовал, как у него начало, сначала едва заметно, а потом все
сильнее и сильнее, дрожать колено правой ноги. Наконец это непроизвольное нервное
движение стало так заметно, что от него задрожало все тело. Это было очень неловко и очень
неприятно, и Ромашов со стыдом думал, что Шульгович может принять эту дрожь за
проявление страха перед ним. Но когда полковник заговорил о его матери, кровь вдруг
горячим, охмеляющим потоком кинулась в голову Ромашову, и дрожь мгновенно
прекратилась. В первый раз он поднял глаза кверху и в упор посмотрел прямо в переносицу
Шульговичу с ненавистью, с твердым и — это он сам чувствовал у себя на лице — с дерзким
выражением, которое сразу как будто уничтожило огромную лестницу, разделяющую
маленького подчиненного от грозного начальника. Вся комната вдруг потемнела, точно в ней
задернулись занавески. Густой голос командира упал в какую-то беззвучную глубину.
Наступил промежуток чудовищной темноты и тишины — без мыслей, без воли, без всяких
внешних впечатлений, почти без сознания, кроме одного страшного убеждения, что сейчас,
вот сию минуту, произойдет что-то нелепое, непоправимое, ужасное. Странный, точно
чужой голос шепнул вдруг извне в ухо Ромашову: «Сейчас я его ударю», — и Ромашов
медленно перевел глаза на мясистую, большую старческую щеку и на серебряную серьгу в
ухе, с крестом и полумесяцем.
Затем, как во сне, увидел он, еще не понимая этого, что в глазах Шульговича
попеременно отразились удивление, страх, тревога, жалость… Безумная, неизбежная волна,
захватившая так грозно и так стихийно душу Ромашова, вдруг упала, растаяла, отхлынула
далеко. Ромашов, точно просыпаясь, глубоко и сильно вздохнул. Все стало сразу простым и
обыденным в его глазах. Шульгович суетливо показывал ему на стул и говорил с
неожиданной грубоватой лаской:
— Фу, черт… какой же вы обидчивый… Да садитесь же, черт вас задери! Ну да… все
вы вот так. Глядите на меня, как на зверя. Кричит, мол, старый хрен без толку, без смысла,
черт бы его драл. А я, — густой голос заколыхался теплыми, взволнованными нотами, — а я,
ей-богу, мой милый, люблю вас всех, как своих детей. Что же, вы думаете, не страдаю я за
вас? Не болею? Эх, господа, господа, не понимаете вы меня. Ну, ладно, ну, погорячился я,
перехватил через край — разве же можно на старика сердиться? Э-эх, молодежь. Ну, мир —
кончено. Руку. И пойдем обедать.
Ромашов молча поклонился и пожал протянутую ему руку, большую, пухлую и
холодную руку. Чувство обиды у него прошло, но ему не было легче. После сегодняшних
утренних важных и гордых мыслей он чувствовал себя теперь маленьким, жалким, бледным