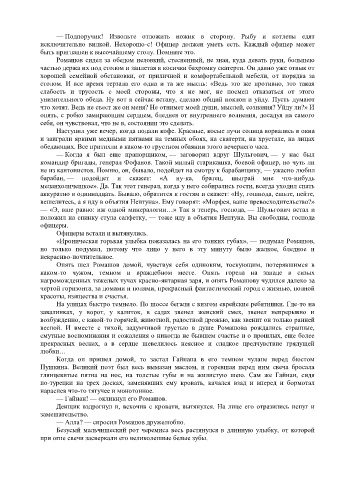Page 40 - Поединок
P. 40
— Подпоручик! Извольте отложить ножик в сторону. Рыбу и котлеты едят
исключительно вилкой. Нехорошо-с! Офицер должен уметь есть. Каждый офицер может
быть приглашен к высочайшему столу. Помните это.
Ромашов сидел за обедом неловкий, стесненный, не зная, куда девать руки, большею
частью держа их под столом и заплетая в косички бахромку скатерти. Он давно уже отвык от
хорошей семейной обстановки, от приличной и комфортабельной мебели, от порядка за
столом. И все время терзала его одна и та же мысль: «Ведь это же противно, это такая
слабость и трусость с моей стороны, что я не мог, не посмел отказаться от этого
унизительного обеда. Ну вот я сейчас встану, сделаю общий поклон и уйду. Пусть думают
что хотят. Ведь не съест же он меня? Не отнимет моей души, мыслей, сознания? Уйду ли?» И
опять, с робко замирающим сердцем, бледнея от внутреннего волнения, досадуя на самого
себя, он чувствовал, что не в, состоянии это сделать.
Наступил уже вечер, когда подали кофе. Красные, косые лучи солнца ворвались в окна
и заиграли яркими медными пятнами на темных обоях, на скатерти, на хрустале, на лицах
обедающих. Все притихли в каком-то грустном обаянии этого вечернего часа.
— Когда я был еще прапорщиком, — заговорил вдруг Шульгович, — у нас был
командир бригады, генерал Фофанов. Такой милый старикашка, боевой офицер, но чуть ли
не из кантонистов. Помню, он, бывало, подойдет на смотру к барабанщику, — ужасно любил
барабан, — подойдет и скажет: «А ну-ка, братец, шыграй мне что-нибудь
меланхоличешкое». Да. Так этот генерал, когда у него собирались гости, всегда уходил спать
аккуратно в одиннадцать. Бывало, обратится к гостям и скажет: «Ну, гошпода, ешьте, пейте,
вешелитесь, а я иду в объятия Нептуна». Ему говорят: «Морфея, ваше превосходительство?»
— «Э, вше равно: иж одной минералогии…» Так я теперь, господа, — Шульгович встал и
положил на спинку стула салфетку, — тоже иду в объятия Нептуна. Вы свободны, господа
офицеры.
Офицеры встали и вытянулись.
«Ироническая горькая улыбка показалась на его тонких губах», — подумал Ромашов,
но только подумал, потому что лицо у него в эту минуту было жалкое, бледное и
некрасиво-почтительное.
Опять шел Ромашов домой, чувствуя себя одиноким, тоскующим, потерявшимся в
каком-то чужом, темном и враждебном месте. Опять горела на западе в сизых
нагроможденных тяжелых тучах красно-янтарная заря, и опять Ромашову чудился далеко за
чертой горизонта, за домами и полями, прекрасный фантастический город с жизнью, полной
красоты, изящества и счастья.
На улицах быстро темнело. По шоссе бегали с визгом еврейские ребятишки. Где-то на
завалинках, у ворот, у калиток, в садах звенел женский смех, звенел непрерывно и
возбужденно, с какой-то горячей, животной, радостной дрожью, как звенит он только ранней
весной. И вместе с тихой, задумчивой грустью в душе Ромашова рождались странные,
смутные воспоминания и сожаления о никогда не бывшем счастье и о прошлых, еще более
прекрасных веснах, а в сердце шевелилось неясное и сладкое предчувствие грядущей
любви…
Когда он пришел домой, то застал Гайнана в его темном чулане перед бюстом
Пушкина. Великий поэт был весь вымазан маслом, и горевшая перед ним свеча бросала
глянцевитые пятна на нос, на толстые губы и на жилистую шею. Сам же Гайнан, сидя
по-турецки на трех досках, заменявших ему кровать, качался взад и вперед и бормотал
нараспев что-то тягучее и монотонное.
— Гайнан! — окликнул его Ромашов.
Денщик вздрогнул и, вскочив с кровати, вытянулся. На лице его отразились испуг и
замешательство.
— Алла? — спросил Ромашов дружелюбно.
Безусый мальчишеский рот черемиса весь растянулся в длинную улыбку, от которой
при огне свечи засверкали его великолепные белые зубы.