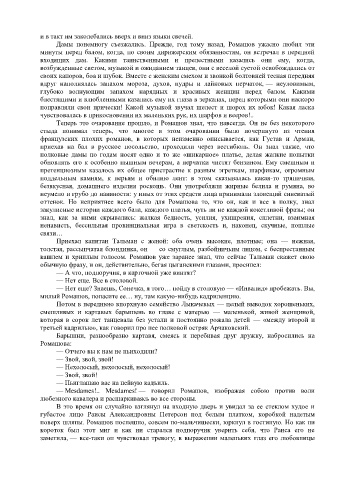Page 43 - Поединок
P. 43
и в такт им заколебались вверх и вниз языки свечей.
Дамы понемногу съезжались. Прежде, год тому назад, Ромашов ужасно любил эти
минуты перед балом, когда, по своим дирижерским обязанностям, он встречал в передней
входящих дам. Какими таинственными и прелестными казались они ему, когда,
возбужденные светом, музыкой и ожиданием танцев, они с веселой суетой освобождались от
своих капоров, боа и шубок. Вместе с женским смехом и звонкой болтовней тесная передняя
вдруг наполнялась запахом мороза, духов, пудры и лайковых перчаток, — неуловимым,
глубоко волнующим запахом нарядных и красивых женщин перед балом. Какими
блестящими и влюбленными казались ему их глаза в зеркалах, перед которыми они наскоро
поправляли свои прически! Какой музыкой звучал шелест и шорох их юбок! Какая ласка
чувствовалась в прикосновении их маленьких рук, их шарфов и вееров!..
Теперь это очарование прошло, и Ромашов знал, что навсегда. Он не без некоторого
стыда понимал теперь, что многое в этом очаровании было почерпнуто из чтения
французских плохих романов, в которых неизменно описывается, как Густав и Арман,
приехав на бал в русское посольство, проходили через вестибюль. Он знал также, что
полковые дамы по годам носят одно и то же «шикарное» платье, делая жалкие попытки
обновлять его к особенно пышным вечерам, а перчатки чистят бензином. Ему смешным и
претенциозным казалось их общее пристрастие к разным эгреткам, шарфикам, огромным
поддельным камням, к перьям и обилию лент: в этом сказывалась какая-то тряпичная,
безвкусная, домашнего изделия роскошь. Они употребляли жирные белила и румяна, во
неумело и грубо до наивности: у иных от этих средств лица принимали зловещий синеватый
оттенок. Но неприятнее всего было для Ромашова то, что он, как и все в полку, знал
закулисные истории каждого бала, каждого платья, чуть ли не каждой кокетливой фразы; он
знал, как за ними скрывались: жалкая бедность, усилия, ухищрения, сплетни, взаимная
ненависть, бессильная провинциальная игра в светскость и, наконец, скучные, пошлые
связи…
Приехал капитан Тальман с женой: оба очень высокие, плотные; она — нежная,
толстая, рассыпчатая блондинка, он — со смуглым, разбойничьим лицом, с беспрестанным
кашлем и хриплым голосом. Ромашов уже заранее знал, что сейчас Тальман скажет свою
обычную фразу, и он, действительно, бегая цыганскими глазами, просипел:
— А что, подпоручик, в карточной уже винтят?
— Нет еще. Все в столовой.
— Нет еще? Знаешь, Сонечка, я того… пойду в столовую — «Инвалид» пробежать. Вы,
милый Ромашов, попасите ее… ну, там какую-нибудь кадриленцию.
Потом в переднюю впорхнуло семейство Лыкачевых — целый выводок хорошеньких,
смешливых и картавых барышень во главе с матерью — маленькой, живой женщиной,
которая в сорок лет танцевала без устали и постоянно рожала детей — «между второй и
третьей кадрилью», как говорил про нее полковой остряк Арчаковский.
Барышни, разнообразно картавя, смеясь и перебивая друг дружку, набросились на
Ромашова:
— Отчего вы к нам не пьиходили?
— Звой, звой, звой!
— Нехолосый, нехолосый, нехолосый!
— Звой, звой!
— Пьиглашаю вас на пейвую кадъиль.
— Mesdames!.. Mesdames! — говорил Ромашов, изображая собою против воли
любезного кавалера и расшаркиваясь во все стороны.
В это время он случайно взглянул на входную дверь и увидал за ее стеклом худое и
губастое лицо Раисы Александровны Петерсон под белым платком, коробкой надетым
поверх шляпы. Ромашов поспешно, совсем по-мальчишески, юркнул в гостиную. Но как ни
короток был этот миг и как ни старался подпоручик уверить себя, что Раиса его не
заметила, — все-таки он чувствовал тревогу; в выражении маленьких глаз его любовницы