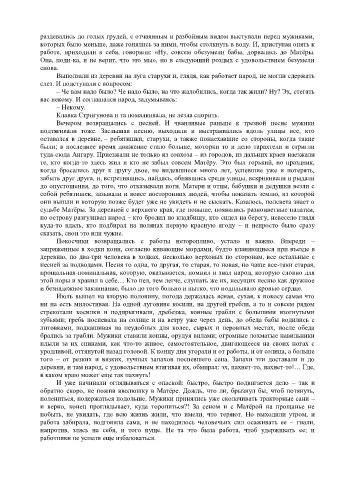Page 42 - Прощание с Матерой
P. 42
раздевались до голых грудей, с отчаянным и разбойным видом выступали перед мужиками,
которых было меньше, даже гонялись за ними, чтобы столкнуть в воду. И, приступая опять к
работе, приходили в себя, говорили: «Ну, совсем обезумели бабы, дорвались до Матёры.
Она, поди-ка, и не верит, что это мы», но в следующий роздых с удовольствием безумели
снова.
Выползали из деревни на луга старухи и, глядя, как работает народ, не могли сдержать
слез. И подступали с вопросом:
– Че вам надо было? Че надо было, на что жалобились, когда так жили? Ну? Эх, стегать
вас некому. И соглашался народ, задумываясь:
– Некому.
Клавка Стригунова и та помалкивала, не лезла спорить.
Вечером возвращались с песней. И чванливые раньше к трезвой песне мужики
подтягивали тоже. Заслышав песню, выходили и выстраивались вдоль улицы все, кто
оставался в деревне, – ребятишки, старухи, а также понаехавшие со стороны, когда такие
были; в последнее время движение стало больше, моторки то и дело тарахтели и стригли
туда-сюда Ангару. Приезжали не только из совхоза – из городов, из дальних краев наезжали
те, кто когда-то здесь жил и кто не забыл совсем Матёру. Это был горький, но праздник,
когда бросались друг к другу двое, не видевшиеся много лет, успевшие уже и потерять,
забыть друг друга, и, встретившись, найдясь, обнявшись среди улицы, вскрикивали и рыдали
до опустошения, до того, что отказывали ноги. Матери и отцы, бабушки и дедушки везли с
собой ребятишек, зазывали и вовсе посторонних людей, чтобы показать землю, из которой
они вышли и которую позже будет уже не увидеть и не сыскать. Казалось, полсвета знает о
судьбе Матёры. За деревней с верхнего края, где повыше, появились разноцветные палатки,
по острову разгуливал народ – кто бродил по кладбищу, кто сидел на берегу, невесело глядя
куда-то вдаль, кто подбирал на полянах первую красную ягоду – и непросто было сразу
сказать, свои это или чужие.
Покосчики возвращались с работы неторопливо, устало и важно. Впереди –
запряженные в ходки кони, согласно кивающие мордами, будто кланяющиеся при въезде в
деревню, по два-три человека в ходках, несколько верховых по сторонам, все остальные с
песней за подводами. Песня то одна, то другая, то старая, то новая, но чаще все-таки старая,
прощальная-поминальная, которую, оказывается, помнил и знал народ, которую словно для
этой поры и хранил в себе… Кто пел, тем легче, слушать же их, несущих песню как дружное
и безнадежное заклинание, было до того больно и пытко, что подплывало кровью сердце.
Июль вышел на вторую половину, погода держалась ясная, сухая, к покосу самая что
ни на есть милостивая. На одной луговине косили, на другой гребли, а то и совсем рядом
стрекотали косилки и подпрыгивали, дребезжа, конные грабли с большими изогнутыми
зубьями; гребь поспевала на солнце и на ветру уже через день, до обеда бабы водились с
литовками, подкашивая на неудобных для колес, сырых и неровных местах, после обеда
брались за грабли. Мужики ставили копны, орудуя вилами; огромные лохматые навильники
плыли за их спинами, как что-то живое, самостоятельное, двигающееся на своих ногах с
уродливой, оттянутой назад головой. К концу дня угорали и от работы, и от солнца, а больше
того – от резких и вязких, тучных запахов поспевшего сена. Запахи эти доставали и до
деревни, и там народ, с удовольствием втягивая их, обмирал: эх, пахнет-то, пахнет-то!… Где,
в каком краю может еще так пахнуть!
И уже начинали оглядываться с опаской: быстро, быстро подвигается дело – так и
обратно скоро, не пожив вволюшку в Матёре. Дождь, что ли, брызнул бы, чтоб потянуть,
полениться, подержаться подольше. Мужики принялись уже сколачивать тракторные сани –
и верно, конец проглядывает, куда торопиться?! За сеном и с Матёрой на прощанье не
побыть, не увидать, где всю жизнь жили, что имели, что теряют. Но выходили утром, и
работа забирала, подгоняла сама, и не находилось человечьих сил осаживать ее – гнали,
напротив, злясь на себя, и того пуще. Не та это была работа, чтоб удерживать ее; и
работники не успели еще избаловаться.