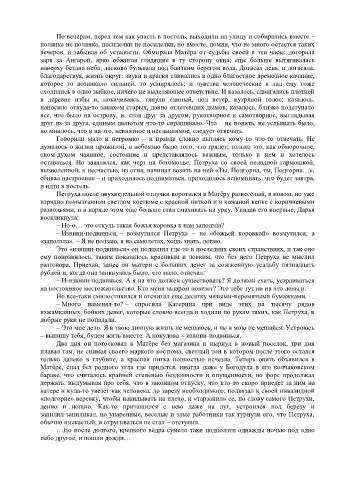Page 43 - Прощание с Матерой
P. 43
По вечерам, перед тем как упасть в постель, выходили на улицу и собирались вместе –
полянка не полянка, посиделки не посиделки, но вместе, помня, что не много остается таких
вечеров, и забывая об усталости. Обмирала Матёра от судьбы своей в эти часы: догорала
заря за Ангарой, ярко обжигая глядящие в ту сторону окна; еще больше вытягивалась
наверху бездна неба; ласково булькала под близким берегом вода. Догасал день, и догасала,
благодарствуя, жизнь округ: звуки и краски сливались в одно благостное дремотное качание,
которое то возникало сильней, то усмирялось; и чувства человеческие в лад ему тоже
сходились в одно зыбкое, ничего не выделяющее ответствие. И казалось, сдвигались плотней
в деревне избы и, покачиваясь, тянули единый, под ветер, нутряной голос; казалось,
наносило откуда-то запахом старых, давно отлетевших дымов; казалось, близко подступало
все, что было на острову, и, стоя друг за другом, рукотворное и самотворное, выглядывая
друг из-за друга, единым шепотом что-то спрашивало. Что – не понять, не услышать было,
но мнилось, что и на это, невнятное и неслышимое, следует отвечать.
Говорили мало и негромко – и правда словно пытаясь кому-то что-то отвечать. Не
думалось о жизни прожитой, и небоязно было того, что грядет; только это, как обморочное,
сном-духом чаянное, состояние и представлялось важным, только в нем и хотелось
оставаться. Но заявлялся, как черт на богомолье, Петруха со своей неладной гармошкой,
вызволенной, к несчастью, из огня, начинал возить на ней «Ты, Подгорна, ты, Подгорна…»,
сбивал настроение – и приходилось подниматься, приходилось вспоминать, что будет завтра,
и идти в постель.
Петруха после двухнедельной отлучки воротился в Матёру развеселый, в новом, но уже
изрядно помызганном светлом костюме с красной ниткой и в кожаной кепке с коричневыми
разводьями, и в наряде этом еще больше стал смахивать на урку. Увидав его впервые, Дарья
воскликнула:
– Но-о… это откуль такая божья коровка к нам заползла?
– Извини-подвинься, – возмутился Петруха – не «божьей коровкой» возмутился, а
«заползла». – Я не ползаю, я на самолетах, хошь знать, летаю.
Это «извини-подвинься» он подцепил где-то в последних своих странствиях, и так оно
ему понравилось, таким показалось красивым и ловким, что без него Петруха не мыслил
разговора. Приехав, занес он матери с больших денег за сожженную усадьбу пятнадцать
рублей и, когда она заикнулась было, что мало, отвечал:
– И-извини-подвинься. А я на что должен существовать? Я должон ехать, устраиваться
на постоянное местожительство. Кто меня задаром повезет? Это тебе тут ни на что деньги.
Но все-таки смилостивился и отсчитал еще десятку мятыми-перемятыми бумажками.
– Много наменял-то? – спросила Катерина при виде этих на тысячу рядов
изжамканных, бойких денег, которые словно всегда и ходили по рукам таких, как Петруха, в
добрые руки не попадали.
– Это мое дело. Я в твою личную жизнь не мешаюсь, и ты в мою не мешайся. Устроюсь
– выпишу тебя, будем жить вместе. А покудова – извини-подвинься.
Два дня он потосковал в Матёре без магазина и нырнул в новый поселок, три дня
плавал там, не снимая своего маркого костюма, светлый тон в котором после этого остался
только далеко в глубине, а красная нитка полностью исчезла. Теперь опять объявился в
Матёре, спал без родного угла где придется, иногда даже у Богодула в его колчаковском
бараке, что считалось крайней степенью бездомности и опущенности, но форс продолжал
держать, выдумывая про себя, что в законном отпуску, что кто-то скоро приедет за ним на
катере и куда-то увезет как человека, до зарезу необходимого; подвязал к своей инвалидной
«подгорне» веревку, чтобы накидывать на плечо, и «тарзанил» ее, по слову самого Петрухи,
денно и нощно. Как-то притащился с нею даже на луг, устроился под березу и
запилил-запиликал, но упаренные, веселые и злые работники так турнули его, что Петруха,
обычно языкастый, и отругиваться не стал – отступил.
…Но после долгого, крепкого вёдра сумело-таки подползти однажды ночью под одно
небо другое, и пошли дожди…