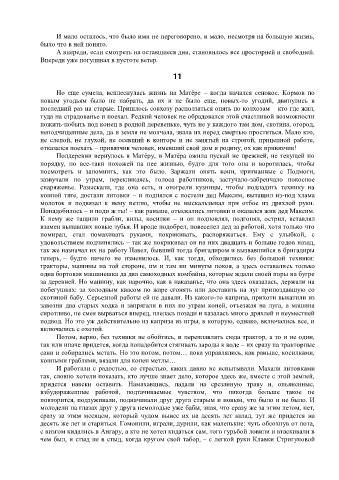Page 41 - Прощание с Матерой
P. 41
И мало осталось, что было ими не переговорено, и мало, несмотря на большую жизнь,
было что в ней понято.
А впереди, если смотреть на оставшиеся дни, становилось все просторней и свободней.
Впереди уже погуливал в пустоте ветер.
11
Но еще сумела, всплеснулась жизнь на Матёре – когда начался сенокос. Кормов по
новым угодьям было не набрать, да их и не было еще, новых-то угодий, двинулись в
последний раз на старые. Пришлось совхозу расползаться опять по колхозам – кто где жил,
туда на страдованье и поехал. Редкий человек не обрадовался этой счастливой возможности
пожить-побыть под конец в родной деревеньке, чуть не у каждого там дом, скотина, огород,
неподчищенные дела, да и земля не молчала, звала их перед смертью проститься. Мало кто,
не слепой, не глухой, не осевший в конторе и не занятый на строгой, прицепной работе,
отказался поехать – привязчив человек, имевший свой дом и родину, ох как привязчив!
Полдеревни вернулось в Матёру, и Матёра ожила пускай не прежней, не текущей по
порядку, но все-таки похожей на нее жизнью, будто для того она и воротилась, чтобы
посмотреть и запомнить, как это было. Заржали опять кони, пригнанные с Подмоги,
зазвучали по утрам, перекликаясь, голоса работников, застучало-забренчало покосное
снаряженье. Разыскали, где она есть, и отогрели кузницы, чтобы подладить технику на
конной тяге, достали литовки – и поднялся с постели дед Максим, вытащил из-под хлама
молоток и подвязал к нему петлю, чтобы не выскальзывал при отбое из дряхлой руки.
Понадобилось – и поди ж ты! – как раньше, отыскались литовки и оказался жив дед Максим.
К нему же тащили грабли, вилы, косилки – и он подновлял, подгонял, острил, вставлял
взамен выпавших новые зубья. И вроде подобрел, повеселел дед за работой, хотя только что
помирал, стал помахивать руками, покрикивать, распоряжаться. Ему с улыбкой, с
удовольствием подчинялись – так же покрикивал он на них двадцать и больше годов назад,
так же назначал их на работу Павел, бывший тогда бригадиром и вызвавшийся в бригадиры
теперь, – будто ничего не изменилось. И, как тогда, обходились без большой техники:
тракторы, машины на той стороне, им и там ни минуты покоя, а здесь оставались только
одна бортовая машинешка да два самоходных комбайна, которые ждали своей поры на бугре
за деревней. Но машину, как нарочно, как в наказанье, что она здесь оказалась, держали на
побегушках: за холодным квасом по жаре сгонять или доставить на луг припоздавшую со
скотиной бабу. Серьезной работы ей не давали. Из какого-то каприза, прихоти выкатили из
завозни два старых ходка и запрягали в них по утрам коней, отъезжая на луга, а машина
сиротливо, не смея вырваться вперед, плелась позади и казалась много дряхлей и неуместней
подвод. Но это уж действительно из каприза из игры, в которую, однако, включались все, и
включались с охотой.
Потом, верно, без техники не обойтись, и переплавлять сюда трактор, а то и не один,
так или иначе придется, когда понадобится стягивать зароды к воде – их сразу на тракторные
сани и собирались метать. Но это потом, потом… пока управлялись, как раньше, косилками,
конными граблями, вязали для копен метлы…
И работали с радостью, со страстью, каких давно не испытывали. Махали литовками
так, словно хотели показать, кто лучше знает дело, которое здесь же, вместе с этой землей,
придется навеки оставить. Намахавшись, падали на срезанную траву и, опьяненные,
взбудораженные работой, подтачиваемые чувством, что никогда больше такое не
повторится, подзуживали, подначивали друг друга старым и новым, что было и не было. И
молодели на глазах друг у друга немолодые уже бабы, зная, что сразу же за этим летом, нет,
сразу за этим месяцем, который чудом вынес их на десять лет назад, тут же придется на
десять же лет и стариться. Гомонили, играли, дурили, как маленькие: чуть обсохнув от пота,
с визгом кидались в Ангару, а кто не хотел кидаться сам, того гурьбой ловили и втаскивали в
чем был, и стыд не в стыд, когда кругом свой табор, – с легкой руки Клавки Стригуновой