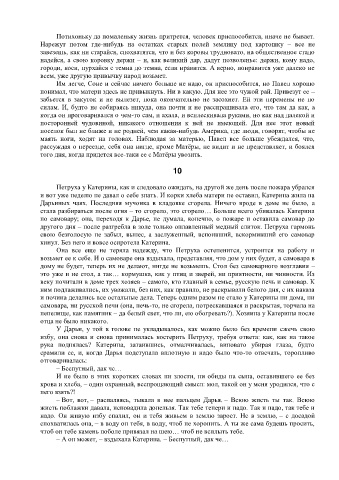Page 37 - Прощание с Матерой
P. 37
Потихоньку да помаленьку жизнь притрется, человек приспособится, иначе не бывает.
Нарежут потом где-нибудь на остатках старых полей землицу под картошку – все не
завезешь, как ни старайся, спохватятся, что и без коровы трудновато, на общественное стадо
надейся, а свою коровку держи – и, как великий дар, дадут позволенье: держи, кому надо,
городи, коси, пурхайся с темна до темна, если нравится. А верно, понравится уже далеко не
всем, уже другую привычку народ возьмет.
Им легче, Соне и сейчас ничего больше не надо, он приспособится, но Павел хорошо
понимал, что матери здесь не привыкнуть. Ни в какую. Для нее это чужой рай. Привезут ее –
забьется в закуток и не вылезет, пока окончательно не засохнет. Ей эти перемены не по
силам. И, будто не собираясь никуда, она почти и не расспрашивала его, что там да как, а
когда он проговаривался о чем-то сам, и ахала, и всплескивала руками, но как над далекой и
посторонней чудовиной, никакого отношения к ней не имеющей. Для нее этот новый
поселок был не ближе и не родней, чем какая-нибудь Америка, где люди, говорят, чтобы не
маять ноги, ходят на головах. Наблюдая за матерью, Павел все больше убеждался, что,
рассуждая о переезде, себя она нигде, кроме Матёры, не видит и не представляет, и боялся
того дня, когда придется все-таки ее с Матёры увозить.
10
Петруха у Катерины, как и следовало ожидать, на другой же день после пожара убрался
и вот уже неделю не давал о себе знать. И корки хлеба матери не оставил, Катерина жила на
Дарьиных чаях. Последняя мучонка в кладовке сгорела. Ничего вроде в доме не было, а
стала разбираться после огня – то сгорело, это сгорело… Больше всего убивалась Катерина
по самовару; она, переходя к Дарье, не думала, конечно, о пожаре и оставила самовар до
другого дня – после разгребла в золе только оплавленный медный слиток. Петруха гармонь
свою безголосую не забыл, вынес, а заслуженный, вспоивший, вскормивший его самовар
кинул. Без него и вовсе осиротела Катерина.
Она все еще не теряла надежду, что Петруха остепенится, устроится на работу и
возьмет ее к себе. И о самоваре она вздыхала, представляя, что дом у них будет, а самовара в
дому не будет, теперь их не делают, нигде не возьмешь. Стол без самоварного возглавия –
это уже и не стол, а так… кормушка, как у птиц и зверей, ни приятности, ни чинности. Из
веку почитали в доме трех хозяев – самого, кто главный в семье, русскую печь и самовар. К
ним подлаживались, их уважали, без них, как правило, не раскрывали белого дня, с их наказа
и почина делались все остальные дела. Теперь одним разом не стало у Катерины ни дома, ни
самовара, ни русской печи (она, печь-то, не сгорела, потрескавшаяся и раскрытая, торчала на
пепелище, как памятник – да белый свет, что ли, ею обогревать?). Хозяина у Катерины после
отца не было никакого.
У Дарьи, у той в голове не укладывалось, как можно было без времени сжечь свою
избу, она снова и снова принималась костерить Петруху, требуя ответа: как, как на такое
рука поднялась? Катерина, затаившись, отмалчивалась, виновато убирая глаза, будто
срамили ее, и, когда Дарья подступала вплотную и надо было что-то отвечать, торопливо
отговаривалась:
– Беспутный, дак че…
И не было в этих коротких словах ни злости, ни обиды на сына, оставившего ее без
крова и хлеба, – один охранный, всепрощающий смысл: мол, такой он у меня уродился, что с
него взять?!
– Вот, вот, – распаляясь, тыкала в нее пальцем Дарья. – Всюю жисть ты так. Всюю
жисть поблажки давала, исповадила донельзя. Так тебе тепери и надо. Так и надо, так тебе и
надо. Он живую избу спалил, он и тебя живьем в землю зароет. Не в землю, – с досадой
спохватилась она, – в воду он тебя, в воду, чтоб не хоронить. А ты же сама будешь просить,
чтоб он тебе камень поболе привязал на шею… чтоб не всплыть тебе.
– А он может, – вздыхала Катерина. – Беспутный, дак че…