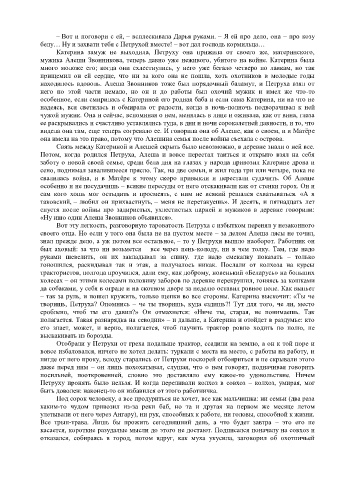Page 38 - Прощание с Матерой
P. 38
– Вот и поговори с ей, – всплескивала Дарья руками. – Я ей про дело, она – про козу
белу… Ну и захвати тебя с Петрухой вместе! – вот дал господь кормильца…
Катерина замуж не выходила, Петруху она прижила от своего же, материнского,
мужика Алеши Звонникова, теперь давно уже неживого, убитого на войне. Катерина была
много моложе его; когда они схлестнулись, у него уже бегало четверо по лавкам, но так
прищемил он ей сердце, что ни за кого она не пошла, хоть охотников в молодые годы
находилось вдоволь. Алеша Звонников тоже был порядочный баламут, и Петруха взял от
него по этой части немало, но он и до работы был охочий мужик и имел же что-то
особенное, если смирилась с Катериной его родная баба и если сама Катерина, ни на что не
надеясь, вся светилась и обмирала от радости, когда в ночь-полночь подворачивал к ней
чужой мужик. Она и сейчас, вспоминая о нем, менялась в лице и оживала, как от вина, глаза
ее раскрывались и счастливо уставлялись туда, в дни и ночи сорокалетней давности, и то, что
видела она там, еще теперь согревало ее. И говорила она об Алеше, как о своем, и в Матёре
она имела на это право, потому что Алешина семья после войны съехала с острова.
Связь между Катериной и Алешей скрыть было невозможно, в деревне знали о ней все.
Потом, когда родился Петруха, Алеша и вовсе перестал таиться и открыто взял на себя
заботу о новой своей семье, среди бела дня на глазах у народа привозил Катерине дрова и
сено, поднимал завалившееся прясло. Так, на две семьи, и жил года три или четыре, пока не
свалилась война, и в Матёре к этому скоро привыкли и перестали судачить. Об Алеше
особенно и не посудачишь – всякие пересуды от него отскакивали как от стенки горох. Он и
сам кого хошь мог остыдить и просмеять, с ним не всякий решался схватываться. «А я
таковский, – любил он прихвастнуть, – меня не перетакуешь». И десять, и пятнадцать лет
спустя после войны про задиристых, ухлестистых парней и мужиков в деревне говорили:
«Ну ишо один Алеша Звонников объявился».
Вот эту легкость, разговорную тароватость Петруха с избытком перенял у незаконного
своего отца. Но если у того она была не на пустом месте – за делом Алеша лясы не точил,
знал прежде дело, а уж потом все остальное, – то у Петрухи вышло наоборот. Работник он
был аховый: за что ни возьмется – все через пень-колоду, ни в чем толку. Там, где надо
руками шевелить, он их закладывал за спину. где надо смекалку показать – только
гоношился, раскидывал так и этак, а получалось никак. Послали от колхоза на курсы
трактористов, полгода проучился, дали ему, как доброму, новенький «Беларусь» на больших
колесах – он этими колесами половину заборов по деревне перекрушил, гоняясь за кошками
да собаками, у себя в ограде и на скотном дворе за неделю оставил ровное поле. Как выпьет
– так за руль, и пошел кружить, только щепки во все стороны. Катерина выскочит: «Ты че
творишь, Петруха? Опомнись – че ты творишь, куда ездишь?! Тут для того, че ли, место
сроблено, чтоб ты его давил?» Он отмахнется: «Ниче ты, старая, не понимаешь. Так
полагается. Такая разнарядка на севодни» – и дальше, а Катерина и отойдет в раздумье: кто
его знает, может, и верно, полагается, чтоб научить трактор ровно ходить по полю, не
выскакивать из борозды.
Отобрали у Петрухи от греха подальше трактор, ссадили на землю, а он к той поре и
вовсе избаловался, ничего не хотел делать: туркали с места на место, с работы на работу, и
нигде от него проку, всюду старались от Петрухи поскорей отбояриться и не скрывали этого
даже перед ним – он лишь похохатывал, слушая, что о нем говорят, подначивая говорить
посильней, пооткровенней, словно это доставляло ему какое-то удовольствие. Ничем
Петруху пронять было нельзя. И когда переливали колхоз в совхоз – колхоз, умирая, мог
быть доволен: наконец-то он избавился от этого работничка.
Под сорок человеку, а все продуриться не хочет, все как мальчишка: ни семьи (два раза
каким-то чудом привозил из-за реки баб, но та и другая на первом же месяце летом
улетывали от него через Ангару), ни рук, способных к работе, ни головы, способной к жизни.
Все трын-трава. Лишь бы прожить сегодняшний день, а что будет завтра – это его не
касается, короткие разудалые мысли до этого не достают. Подписался поначалу на совхоз и
отказался, собираясь в город, потом вдруг, как муха укусила, заговорил об охотничьей