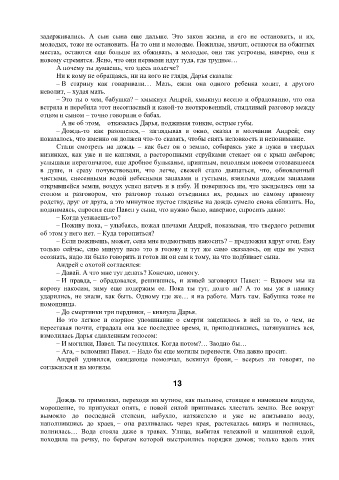Page 48 - Прощание с Матерой
P. 48
задерживались. А сын сына еще дальше. Это закон жизни, и его не остановить, и их,
молодых, тоже не остановить. На то они и молодые. Пожилые, значит, остаются на обжитых
местах, остаются еще больше их обживать, а молодые, они так устроены, наверно, они к
новому стремятся. Ясно, что они первыми идут туда, где труднее…
А почему ты думаешь, что здесь полегче?
Ни к кому не обращаясь, ни на кого не глядя, Дарья сказала:
– В старину как говаривали… Мать, ежли она одного ребенка холит, а другого
неволит, – худая мать.
– Это ты о чем, бабушка? – хмыкнул Андрей, хмыкнул весело и обрадованно, что она
встряла и перебила этот несогласный и какой-то неоткровенный, стыдливый разговор между
отцом и сыном – точно говорили о бабах.
– А не об этом, – отказалась Дарья, поджимая тонкие, острые губы.
– Дождь-то как разошелся, – заглядывая в окно, сказал в молчании Андрей; ему
показалось, что именно он должен что-то сказать, чтобы снять неловкость и непонимание.
Стали смотреть на дождь – как бьет он о землю, собираясь уже в лужи в твердых
низинках, как уже и не каплями, а расторопными струйками стекает он с крыш амбаров;
услышали перегончатое, еще дробное бульканье, приятным, неполным покоем отозвавшееся
в душе, и сразу почувствовали, что легче, свежей стало дышаться, что, обновленный
чистыми, снесенными водой небесными запахами и густыми, взнятыми дождем запахами
открывшейся земли, воздух успел натечь и в избу. И поверилось им, что засиделись они за
столом и разговором, что разговор только отъединил их, родных по самому прямому
родству, друг от друга, а это минутное пустое гляденье на дождь сумело снова сблизить. Но,
поднимаясь, спросил еще Павел у сына, что нужно было, наверное, спросить давно:
– Когда уезжаешь-то?
– Поживу пока, – улыбаясь, пожал плечами Андрей, показывая, что твердого решения
об этом у него нет. – Куда торопиться?
– Если поживешь, может, сена мне подмогнешь накосить? – предложил вдруг отец. Ему
только сейчас, сию минуту пало это в голову и тут же само сказалось, он еще не успел
осознать, надо ли было говорить и готов ли он сам к тому, на что подбивает сына.
Андрей с охотой согласился:
– Давай. А что мне тут делать? Конечно, помогу.
– И правда, – обрадовался, решившись, и живей заговорил Павел: – Вдвоем мы на
корову накосим, зиму еще подержим ее. Пока ты тут, долго ли? А то мы уж в панику
ударились, не знали, как быть. Одному где же… я на работе. Мать там. Бабушка тоже не
помощница.
– До смертинки три пердинки, – кивнула Дарья.
Но это легкое и озорное упоминание о смерти зацепилось в ней за то, о чем, не
переставая почти, страдала она все последнее время, и, приподнявшись, натянувшись вся,
взмолилась Дарья сдавленным голосом:
– И могилки, Павел. Ты посулился. Когда потом?… Заодно бы…
– Ага, – вспомнил Павел. – Надо бы еще могилы перенести. Она давно просит.
Андрей удивился, ожидающе помолчал, вскинул брови, – всерьез ли говорят, но
согласился и на могилы.
13
Дождь то примолкал, переходя на мутное, как пыльное, стоящее в намокшем воздухе,
морошение, то припускал опять, с новой силой принимаясь хлестать землю. Все вокруг
вымокло до последней степени, набухло, натяжелело и уже не впитывало воду,
наполнившись до краев, – она разливалась через края, растекалась вширь и полнилась,
полнилась… Вода стояла даже в травах. Улица, выбитая тележной и машинной ездой,
походила на речку, по берегам которой выстроились порядки домов; только вдоль этих