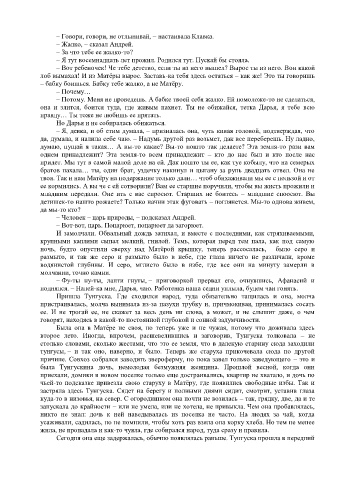Page 52 - Прощание с Матерой
P. 52
– Говори, говори, не отлынивай, – настаивала Клавка.
– Жалко, – сказал Андрей.
– За что тебе ее жалко-то?
– Я тут восемнадцать лет прожил. Родился тут. Пускай бы стояла.
– Вот ребеночек! Че тебе детство, если ты из него вышел? Вырос ты из него. Вон какой
лоб вымахал! И из Матёры вырос. Заставь-ка тебя здесь остаться – как же! Это ты говоришь
– бабку боишься. Бабку тебе жалко, а не Матёру.
– Почему…
– Потому. Меня не проведешь. А бабке твоей себя жалко. Ей помоложе-то не сделаться,
она и злится, боится туда, где живым пахнет. Ты не обижайся, тетка Дарья, я тебе всю
правду… Ты тоже не любишь ее прятать.
Но Дарья и не собиралась обижаться.
– Я, девка, и об етим думала, – призналась она, чуть кивая головой, подтверждая, что
да, думала, и налила себе чаю. – Надумь другой раз возьмет, дак все переберешь. Ну ладно,
думаю, пущай я такая… А вы-то какие? Вы-то пошто так делаете? Эта земля-то рази вам
однем принадлежит? Эта земля-то всем принадлежит – кто до нас был и кто после нас
придет. Мы тут в самой малой доле на ей. Дак пошто ты ее, как туе кобылу, что на семерых
братов пахала… ты, один брат, уздечку накинул и цыгану за рупь двадцать отвел. Она не
твоя. Так и нам Матёру на подержание только дали… чтоб обихаживали мы ее с пользой и от
ее кормились. А вы че с ей сотворили? Вам ее старшие поручили, чтобы вы жисть прожили и
младшим передали. Оне ить с вас спросют. Старших не боитесь – младшие споосют. Вы
детишек-то нашто рожаете? Только начни этак фуговать – поглянется. Мы-то однова живем,
да мы-то кто?
– Человек – царь природы, – подсказал Андрей.
– Вот-вот, царь. Поцарюет, поцарюет да загорюет.
И замолчали. Обвальный дождь затихал, и вместе с последними, как стряхиваемыми,
крупными каплями сыпал мелкий, гнилой. Темь, которая перед тем пала, как под самую
ночь, будто опустили сверху над Матёрой крышку, теперь рассосалась, – было серо и
размыто, и так же серо и размыто было в небе, где глаза ничего не различали, кроме
водянистой глубины. И серо, мглисто было в избе, где все они на минуту замерли в
молчании, точно камни.
– Фу-ты ну-ты, лапти гнуты, – приговоркой прервал его, очнувшись, Афанасий и
поднялся. – Налей-ка мне, Дарья, чаю. Работенка наша седни уплыла, будем чаи гонять.
Пришла Тунгуска. Где сходился народ, туда обязательно тащилась и она, молча
пристраивалась, молча вынимала из-за пазухи трубку и, причмокивая, принималась сосать
ее. И не трогай ее, не скажет за весь день ни слова, а может, и не слышит даже, о чем
говорят, находясь в какой-то постоянной глубокой и сонной задумчивости.
Была она в Матёре не своя, но теперь уже и не чужая, потому что доживала здесь
второе лето. Иногда, впрочем, расшевелившись и заговорив, Тунгуска толковала – не
столько словами, сколько жестами, что это ее земля, что в далекую старину сюда заходили
тунгусы, – и так оно, наверно, и было. Теперь же старуха прикочевала сюда по другой
причине. Совхоз собрался заводить звероферму, но пока завел только заведующего – это и
была Тунгускина дочь, немолодая безмужняя женщина. Прошлой весной, когда они
приехали, домики в новом поселке только еще достраивались, квартир не хватало, и дочь по
чьей-то подсказке привезла свою старуху в Матёру, где появились свободные избы. Так и
застряла здесь Тунгуска. Сядет на берегу и полными днями сидит, смотрит, уставив глаза
куда-то в низовья, на север. С огородишком она почти не возилась – так, грядку, две, да и те
запускала до крайности – или не умела, или не хотела, не привыкла. Чем она пробавлялась,
никто не знал: дочь к ней наведывалась из поселка не часто. На людях за чай, когда
усаживали, садилась, но не помнили, чтобы хоть раз взяла она корку хлеба. Но тем не менее
жила, не пропадала и как-то чуяла, где собирался народ, туда сразу и правила.
Сегодня она еще задержалась, обычно появлялась раньше. Тунгуска прошла в передний