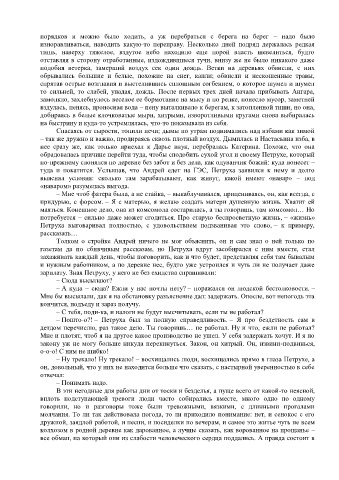Page 49 - Прощание с Матерой
P. 49
порядков и можно было ходить, а уж перебраться с берега на берег – надо было
изноравливаться, наводить какую-то переправу. Несколько дней подряд держалась редкая
тишь, наверху тяжелое, вздутое небо находило еще порой власть шевелиться, будто
отставляя в сторону отработанные, издождившиеся тучи, внизу же не было никакого даже
подобия ветерка, замерший воздух сек один дождь. Ветки на деревьях обвисли, с них
обрывались большие и белые, похожие на снег, капли; обвисли и нескошенные травы,
спрятав острые возглавия и выстелившись сплошным согбением, о которое шумел и шумел
то сильней, то слабей, упадая, дождь. После первых трех дней начала прибывать Ангара,
замолкло, захлебнулось веселое ее бормотание на мысу и по релке, понесло мусор, заметней
вздулась, пенясь, проносная вода – пену выталкивало к берегам, к затопленной тиши, но она,
добираясь в белые клочковатые мыри, хитрыми, изворотливыми кругами снова выбиралась
на быстрину и куда-то устремлялась, что-то показывала из себя.
Спасаясь от сырости, топили печи; дымы по утрам поднимались над избами как зимой
– так же дружно и важно, продираясь сквозь плотный воздух. Дымилась и Настасьина изба, в
нее сразу же, как только приехал к Дарье внук, перебралась Катерина. Похоже, что она
обрадовалась причине перейти туда, чтобы сподобить сухой угол и своему Петрухе, который
по-прежнему слонялся по деревне без забот и без дела, как одуванчик божий: куда понесет –
туда и покатится. Услышав, что Андрей едет на ГЭС, Петруха заявился к нему и долго
выяснял условия: сколько там зарабатывают, как живут, какой имеют «навар» – под
«наваром» разумелась выгода.
– Мне чтоб фатера была, а не стайка, – выкаблучивался, прицениваясь, он, как всегда, с
придурью, с форсом. – Я с матерью, я желаю создать матери душевную жизнь. Хватит ей
маяться. Конешное дело, она из комсомола состарилась, а ты говоришь, там комсомол… Но
потребуется – сильно даже может сгодиться. Про старую беспросветную жизнь, – «жизнь»
Петруха выговаривал полностью, с удовольствием подзванивая это слово, – к примеру,
рассказать…
Толком о стройке Андрей ничего не мог объяснить, он и сам знал о ней только по
газетам да по сбивчивым рассказам, но Петруха вдруг засобирался с ним вместе, стал
захаживать каждый день, чтобы поговорить, как и что будет, представляя себя там бывалым
и нужным работником, а по деревне нес, будто уже устроился и чуть ли не получает даже
зарплату. Зная Петруху, у него не без ехидства спрашивали:
– Сюда высылают?
– А куда – сюда? Ежли у нас почты нету? – поражался он людской бестолковости. –
Мне бы высылали, дак я на обстановку разъяснение дал: задержать. Опосле, вот непогодь эта
кончится, подъеду и зараз получу.
– С тебя, поди-ка, и налоги не будут высчитывать, если ты не работал?
– Пошто-о?! – Петруха был за полную справедливость. – Я про бездетность сам в
детдом перечислю, раз такое дело. Ты говоришь… не работал. Ну и что, ежли не работал?
Мне и плотят, чтоб я на другое какое производство не ушел. У себя задержать хочут. И я по
закону уж не могу больше никуда перекинуться. Закон, он хитрый. Он, извини-подвинься,
о-о-о! С ним не шибко!
– Ну трекало! Ну трекало! – восхищались люди, восхищались прямо в глаза Петрухе, а
он, довольный, что у них не находится больше что сказать, с настырной уверенностью в себе
отвечал:
– Понимать надо.
В эти негодные для работы дни от тоски и безделья, а пуще всего от какой-то неясной,
вплоть подступающей тревоги люди часто собирались вместе, много одно по одному
говорили, но и разговоры тоже были тревожными, вязкими, с длинными прогалами
молчания. То ли так действовала погода, то ли приходило понимание: нет, и сенокос с его
дружной, заядлой работой, и песни, и посиделки по вечерам, и самое это житье чуть не всем
колхозом в родной деревне как дарованное, а лучше сказать, как ворованное на прощанье –
все обман, на который они из слабости человеческого сердца поддались. А правда состоит в