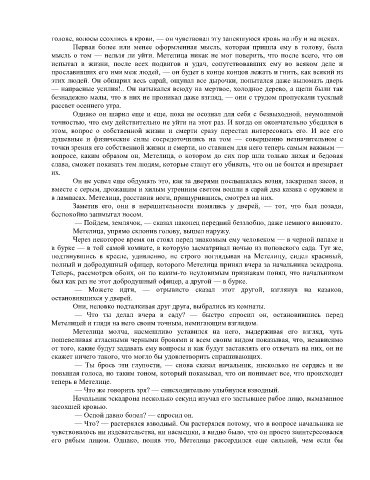Page 70 - Разгром
P. 70
голове, волосы ссохлись в крови, — он чувствовал эту запекшуюся кровь на лбу и на щеках.
Первая более или менее оформленная мысль, которая пришла ему в голову, была
мысль о том — нельзя ли уйти. Метелица никак не мог поверить, что после всего, что он
испытал в жизни, после всех подвигов и удач, сопутствовавших ему во всяком деле и
прославивших его имя меж людей, — он будет в конце концов лежать и гнить, как всякий из
этих людей. Он обшарил весь сарай, ощупал все дырочки, попытался даже выломать дверь
— напрасные усилия!.. Он натыкался всюду на мертвое, холодное дерево, а щели были так
безнадежно малы, что в них не проникал даже взгляд, — они с трудом пропускали тусклый
рассвет осеннего утра.
Однако он шарил еще и еще, пока не осознал для себя с безвыходной, неумолимой
точностью, что ему действительно не уйти на этот раз. И когда он окончательно убедился в
этом, вопрос о собственной жизни и смерти сразу перестал интересовать его. И все его
душевные и физические силы сосредоточились на том — совершенно незначительном с
точки зрения его собственной жизни и смерти, но ставшем для него теперь самым важным —
вопросе, каким образом он, Метелица, о котором до сих пор шла только лихая и бедовая
слава, сможет показать тем людям, которые станут его убивать, что он не боится и презирает
их.
Он не успел еще обдумать это, как за дверями послышалась возня, заскрипел засов, и
вместе с серым, дрожащим и хилым утренним светом вошли в сарай два казака с оружием и
в лампасах. Метелица, расставив ноги, прищурившись, смотрел на них.
Заметив его, они в нерешительности помялись у дверей, — тот, что был позади,
беспокойно зашмыгал носом.
— Пойдем, землячок, — сказал наконец передний беззлобно, даже немного виновато.
Метелица, упрямо склонив голову, вышел наружу.
Через некоторое время он стоял перед знакомым ему человеком — в черной папахе и
в бурке — в той самой комнате, в которую засматривал ночью из поповского сада. Тут же,
подтянувшись в кресле, удивленно, не строго поглядывая на Метелицу, сидел красивый,
полный и добродушный офицер, которого Метелица принял вчера за начальника эскадрона.
Теперь, рассмотрев обоих, он по каким-то неуловимым признакам понял, что начальником
был как раз не этот добродушный офицер, а другой — в бурке.
— Можете идти, — отрывисто сказал этот другой, взглянув на казаков,
остановившихся у дверей.
Они, неловко подталкивая друг друга, выбрались из комнаты.
— Что ты делал вчера в саду? — быстро спросил он, остановившись перед
Метелицей и глядя на него своим точным, немигающим взглядом.
Метелица молча, насмешливо уставился на него, выдерживая его взгляд, чуть
пошевеливая атласными черными бровями и всем своим видом показывая, что, независимо
от того, какие будут задавать ему вопросы и как будут заставлять его отвечать на них, он не
скажет ничего такого, что могло бы удовлетворить спрашивающих.
— Ты брось эти глупости, — снова сказал начальник, нисколько не сердясь и не
повышая голоса, но таким тоном, который показывал, что он понимает все, что происходит
теперь в Метелице.
— Что же говорить зря? — снисходительно улыбнулся взводный.
Начальник эскадрона несколько секунд изучал его застывшее рябое лицо, вымазанное
засохшей кровью.
— Оспой давно болел? — спросил он.
— Что? — растерялся взводный. Он растерялся потому, что в вопросе начальника не
чувствовалось ни издевательства, ни насмешки, а видно было, что он просто заинтересовался
его рябым лицом. Однако, поняв это, Метелица рассердился еще сильней, чем если бы