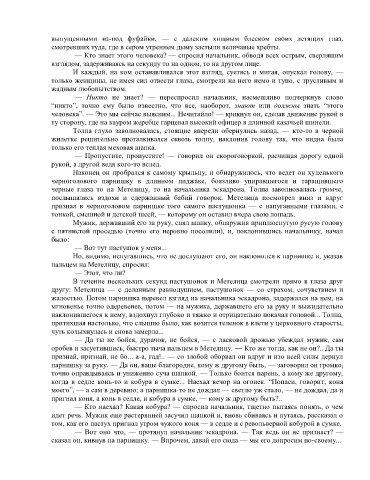Page 72 - Разгром
P. 72
выпущенными из-под фуфайки, — с далеким хищным блеском своих летящих глаз,
смотревших туда, где в сером утреннем дыму застыли величавые хребты.
— Кто знает этого человека? — спросил начальник, обводя всех острым, сверлящим
взглядом, задерживаясь на секунду то на одном, то на другом лице.
И каждый, на ком останавливался этот взгляд, суетясь и мигая, опускал голову, —
только женщины, не имея сил отвести глаза, смотрели на него немо и тупо, с трусливым и
жадным любопытством.
— Никто не знает? — переспросил начальник, насмешливо подчеркнув слово
“никто”, точно ему было известно, что все, наоборот, знают или должны знать “этого
человека”. — Это мы сейчас выясним... Нечитайло! — крикнул он, сделав движение рукой в
ту сторону, где на кауром жеребце гарцевал высокий офицер в длинной казачьей шинели.
Толпа глухо заволновалась, стоящие впереди обернулись назад, — кто-то в черной
жилетке решительно проталкивался сквозь толпу, наклонив голову так, что видна была
только его теплая меховая шапка.
— Пропустите, пропустите! — говорил он скороговоркой, расчищая дорогу одной
рукой, а другой ведя кого-то вслед.
Наконец он пробрался к самому крыльцу, и обнаружилось, что ведет он худенького
черноголового парнишку в длинном пиджаке, боязливо упиравшегося и таращившего
черные глаза то на Метелицу, то на начальника эскадрона. Толпа заволновалась громче,
послышались вздохи и сдержанный бабий говорок. Метелица посмотрел вниз и вдруг
признал в черноголовом парнишке того самого пастушонка — с напуганными глазами, с
тонкой, смешной и детской шеей, — которому он оставил вчера свою лошадь.
Мужик, державший его за руку, снял шапку, обнаружив приплюснутую русую голову
с пятнистой проседью (точно его неровно посолили), и, поклонившись начальнику, начал
было:
— Вот тут пастушок у меня...
Но, видимо, испугавшись, что не дослушают его, он наклонился к парнишке и, указав
пальцем на Метелицу, спросил:
— Этот, что ли?
В течение нескольких секунд пастушонок и Метелица смотрели прямо в глаза друг
другу: Метелица — с деланным равнодушием, пастушонок — со страхом, сочувствием и
жалостью. Потом парнишка перевел взгляд на начальника эскадрона, задержался на нем, на
мгновенье точно одеревенев, потом — на мужика, державшего его за руку и выжидательно
наклонившегося к нему, вздохнул глубоко и тяжко и отрицательно покачал головой... Толпа,
притихшая настолько, что слышно было, как возится теленок в клети у церковного старосты,
чуть колыхнулась и снова замерла...
— Да ты не бойся, дурачок, не бойся, — с ласковой дрожью убеждал мужик, сам
оробев и засуетившись, быстро тыча пальцем в Метелицу. — Кто же тогда, как не он?.. Да ты
признай, признай, не бо... а-а, гад!.. — со злобой оборвал он вдруг и изо всей силы дернул
парнишку за руку. — Да он, ваше благородие, кому ж другому быть, — заговорил он громко,
точно оправдываясь и униженно суча шапкой. — Только боится парень, а кому же другому,
когда в седле конь-то и кобура в сумке... Наехал вечор на огонек. “Попаси, говорит, коня
моего”, — а сам в деревню; а парнишка-то не дождал — светло уж стало, — не дождал, да и
пригнал коня, а конь в седле, и кобура в сумке, — кому ж другому быть?..
— Кто наехал? Какая кобура? — спросил начальник, тщетно пытаясь понять, о чем
идет речь. Мужик еще растерянней засучил шапкой и, вновь сбиваясь и путаясь, рассказал о
том, как его пастух пригнал утром чужого коня — в седле и с револьверной кобурой в сумке.
— Вот оно что, — протянул начальник эскадрона. — Так ведь он не признает? —
сказал он, кивнув на парнишку. — Впрочем, давай его сюда — мы его допросим по-своему...