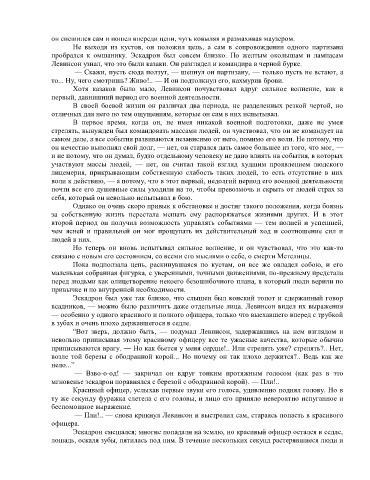Page 74 - Разгром
P. 74
он спешился сам и пошел впереди цепи, чуть ковыляя и размахивая маузером.
Не выходя из кустов, он положил цепь, а сам в сопровождении одного партизана
пробрался к омшанику. Эскадрон был совсем близко. По желтым околышам и лампасам
Левинсон узнал, что это были казаки. Он разглядел и командира в черной бурке.
— Скажи, пусть сюда ползут, — шепнул он партизану, — только пусть не встают, а
то... Ну, чего смотришь? Живо!.. — И он подтолкнул его, нахмурив брови.
Хотя казаков было мало, Левинсон почувствовал вдруг сильное волнение, как в
первый, давнишний период его военной деятельности.
В своей боевой жизни он различал два периода, не разделенных резкой чертой, но
отличных для него по тем ощущениям, которые он сам в них испытывал.
В первое время, когда он, не имея никакой военной подготовки, даже не умея
стрелять, вынужден был командовать массами людей, он чувствовал, что он не командует на
самом деле, а все события развиваются независимо от него, помимо его воли. Не потому, что
он нечестно выполнял свой долг, — нет, он старался дать самое большее из того, что мог, —
и не потому, что он думал, будто отдельному человеку не дано влиять на события, в которых
участвуют массы людей, — нет, он считал такой взгляд худшим проявлением людского
лицемерия, прикрывающим собственную слабость таких людей, то есть отсутствие в них
воли к действию, — а потому, что в этот первый, недолгий период его военной деятельности
почти все его душевные силы уходили на то, чтобы превозмочь и скрыть от людей страх за
себя, который он невольно испытывал в бою.
Однако он очень скоро привык к обстановке и достиг такого положения, когда боязнь
за собственную жизнь перестала мешать ему распоряжаться жизнями других. И в этот
второй период он получил возможность управлять событиями — тем полней и успешней,
чем ясней и правильней он мог прощупать их действительный ход и соотношение сил и
людей в них.
Но теперь он вновь испытывал сильное волнение, и он чувствовал, что это как-то
связано с новым его состоянием, со всеми его мыслями о себе, о смерти Метелицы.
Пока подползала цепь, раскинувшаяся по кустам, он все же овладел собою, и его
маленькая собранная фигурка, с уверенными, точными движениями, по-прежнему предстала
перед людьми как олицетворение некоего безошибочного плана, в который люди верили по
привычке и по внутренней необходимости.
Эскадрон был уже так близко, что слышен был конский топот и сдержанный говор
всадников, — можно было различить даже отдельные лица. Левинсон видел их выражения
— особенно у одного красивого и полного офицера, только что выехавшего вперед с трубкой
в зубах и очень плохо державшегося в седле.
“Вот зверь, должно быть, — подумал Левинсон, задержавшись на нем взглядом и
невольно приписывая этому красивому офицеру все те ужасные качества, которые обычно
приписываются врагу. — Но как бьется у меня сердце!.. Или стрелять уже? стрелять?.. Нет,
возле той березы с ободранной корой... Но почему он так плохо держится?.. Ведь как же
нело...”
— Взво-о-од! — закричал он вдруг тонким протяжным голосом (как раз в это
мгновенье эскадрон поравнялся с березой с ободранной корой). — Пли!..
Красивый офицер, услыхав первые звуки его голоса, удивленно поднял голову. Но в
ту же секунду фуражка слетела с его головы, и лицо его приняло невероятно испуганное и
беспомощное выражение.
— Пли!.. — снова крикнул Левинсон и выстрелил сам, стараясь попасть в красивого
офицера.
Эскадрон смешался; многие попадали на землю, но красивый офицер остался в седле,
лошадь, оскаля зубы, пятилась под ним. В течение нескольких секунд растерявшиеся люди и