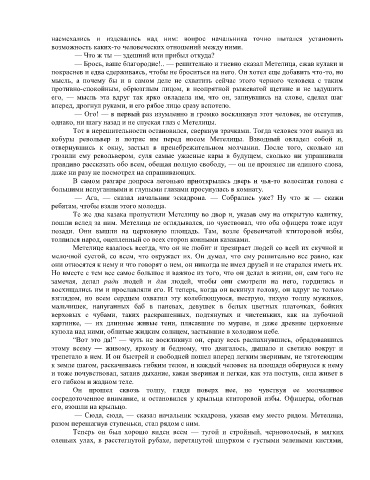Page 71 - Разгром
P. 71
насмехались и издевались над ним: вопрос начальника точно пытался установить
возможность каких-то человеческих отношений между ними.
— Что ж ты — здешний или прибыл откуда?
— Брось, ваше благородие!.. — решительно и гневно сказал Метелица, сжав кулаки и
покраснев и едва сдерживаясь, чтобы не броситься на него. Он хотел еще добавить что-то, но
мысль, а почему бы и в самом деле не схватить сейчас этого черного человека с таким
противно-спокойным, обрюзглым лицом, в неопрятной рыжеватой щетине и не задушить
его, — мысль эта вдруг так ярко овладела им, что он, запнувшись на слове, сделал шаг
вперед, дрогнул руками, и его рябое лицо сразу вспотело.
— Ого! — в первый раз изумленно и громко воскликнул этот человек, не отступив,
однако, ни шагу назад и не спуская глаз с Метелицы.
Тот в нерешительности остановился, сверкнув зрачками. Тогда человек этот вынул из
кобуры револьвер и потряс им перед носом Метелицы. Взводный овладел собой и,
отвернувшись к окну, застыл в пренебрежительном молчании. После того, сколько ни
грозили ему револьвером, суля самые ужасные кары в будущем, сколько ни упрашивали
правдиво рассказать обо всем, обещая полную свободу, — он не произнес ни единого слова,
даже ни разу не посмотрел на спрашивающих.
В самом разгаре допроса легонько приоткрылась дверь и чья-то волосатая голова с
большими испуганными и глупыми глазами просунулась в комнату.
— Ага, — сказал начальник эскадрона. — Собрались уже? Ну что ж — скажи
ребятам, чтобы взяли этого молодца.
Те же два казака пропустили Метелицу во двор и, указав ему на открытую калитку,
пошли вслед за ним. Метелица не оглядывался, но чувствовал, что оба офицера тоже идут
позади. Они вышли на церковную площадь. Там, возле бревенчатой ктиторовой избы,
толпился народ, оцепленный со всех сторон конными казаками.
Метелице казалось всегда, что он не любит и презирает людей со всей их скучной и
мелочной суетой, со всем, что окружает их. Он думал, что ему решительно все равно, как
они относятся к нему и что говорят о нем, он никогда не имел друзей и не старался иметь их.
Но вместе с тем все самое большое и важное из того, что он делал в жизни, он, сам того не
замечая, делал ради людей и для людей, чтобы они смотрели на него, гордились и
восхищались им и прославляли его. И теперь, когда он вскинул голову, он вдруг не только
взглядом, но всем сердцем охватил эту колеблющуюся, пеструю, тихую толпу мужиков,
мальчишек, напуганных баб в паневах, девушек в белых цветных платочках, бойких
верховых с чубами, таких раскрашенных, подтянутых и чистеньких, как на лубочной
картинке, — их длинные живые тени, плясавшие по мураве, и даже древние церковные
купола над ними, облитые жидким солнцем, застывшие в холодном небе.
“Вот это да!” — чуть не воскликнул он, сразу весь распахнувшись, обрадовавшись
этому всему — живому, яркому и бедному, что двигалось, дышало и светило вокруг и
трепетало в нем. И он быстрей и свободней пошел вперед легким звериным, не тяготеющим
к земле шагом, раскачиваясь гибким телом, и каждый человек на площади обернулся к нему
и тоже почувствовал, затаив дыхание, какая звериная и легкая, как эта поступь, сила живет в
его гибком и жадном теле.
Он прошел сквозь толпу, глядя поверх нее, но чувствуя ее молчаливое
сосредоточенное внимание, и остановился у крыльца ктиторовой избы. Офицеры, обогнав
его, взошли на крыльцо.
— Сюда, сюда, — сказал начальник эскадрона, указав ему место рядом. Метелица,
разом перешагнув ступеньки, стал рядом с ним.
Теперь он был хорошо виден всем — тугой и стройный, черноволосый, в мягких
оленьих улах, в расстегнутой рубахе, перетянутой шнурком с густыми зелеными кистями,