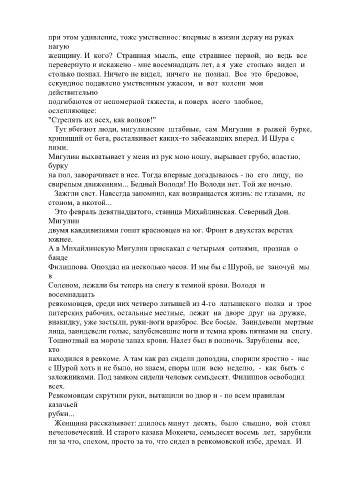Page 10 - Старик
P. 10
при этом удивление, тоже умственное: впервые в жизни держу на руках
нагую
женщину. И кого? Страшная мысль, еще страшнее первой, но ведь все
перевернуто и искажено - мне восемнадцать лет, а я уже столько видел и
столько познал. Ничего не видел, ничего не познал. Все это бредовое,
секундное подавлено умственным ужасом, и вот колени мои
действительно
подгибаются от непомерной тяжести, и поверх всего злобное,
ослепляющее:
"Стрелять их всех, как волков!"
Тут вбегают люди, мигулинские штабные, сам Мигулин в рыжей бурке,
хрипящий от бега, расталкивает каких-то забежавших вперед. И Шура с
ними.
Мигулин выхватывает у меня из рук мою ношу, вырывает грубо, властно,
бурку
на пол, заворачивает в нее. Тогда впервые догадываюсь - по его лицу, по
свирепым движениям... Бедный Володя! Но Володи нет. Той же ночью.
Зажгли свет. Навсегда запомнил, как возвращается жизнь: не глазами, не
стоном, а икотой...
Это февраль девятнадцатого, станица Михайлинская. Северный Дон.
Мигулин
двумя кавдивизиями гонит красновцев на юг. Фронт в двухстах верстах
южнее.
А в Михайлинскую Мигулин прискакал с четырьмя сотнями, прознав о
банде
Филиппова. Опоздал на несколько часов. И мы бы с Шурой, не заночуй мы
в
Соленом, лежали бы теперь на снегу в темной крови. Володя и
восемнадцать
ревкомовцев, среди них четверо латышей из 4-го латышского полка и трое
питерских рабочих, остальные местные, лежат на дворе друг на дружке,
внакидку, уже застыли, руки-ноги вразброс. Все босые. Заиндевели мертвые
лица, заиндевели голые, залубеневшие ноги и темна кровь пятнами на снегу.
Тошнотный на морозе запах крови. Налет был в полночь. Зарублены все,
кто
находился в ревкоме. А там как раз сидели допоздна, спорили яростно - нас
с Шурой хоть и не было, но знаем, споры шли всю неделю, - как быть с
заложниками. Под замком сидели человек семьдесят. Филиппов освободил
всех.
Ревкомовцам скрутили руки, вытащили во двор и - по всем правилам
казачьей
рубки...
Женщина рассказывает: длилось минут десять, было слышно, вой стоял
нечеловеческий. И старого казака Мокеича, семьдесят восемь лет, зарубили
ни за что, спехом, просто за то, что сидел в ревкомовской избе, дремал. И