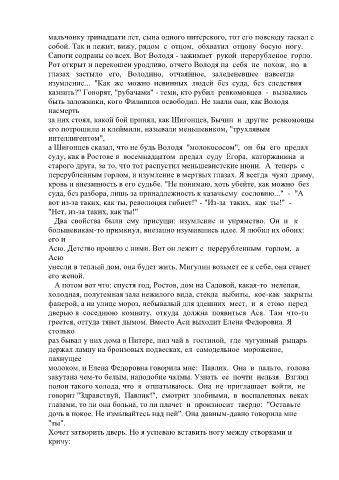Page 11 - Старик
P. 11
мальчонку тринадцати лет, сына одного питерского, тот его повсюду таскал с
собой. Так и лежит, вижу, рядом с отцом, обхватил отцову босую ногу.
Сапоги содраны со всех. Вот Володя - зажимает рукой перерубленое горло.
Рот открыт и перекошен уродливо, отчего Володя на себя не похож, но в
глазах застыло его, Володино, отчаянное, заледеневшее навсегда
изумление... "Как же можно невинных людей без суда, без следствия
казнить?" Говорят, "рубачами" - теми, кто рубил ревкомовцев - вызвались
быть заложники, кого Филиппов освободил. Не знали они, как Володя
насмерть
за них стоял, какой бой принял, как Шигонцев, Бычин и другие ревкомовцы
его потрошили и клеймили, называли меньшевиком, "трухлявым
интеллигентом",
а Шигонцев сказал, что не будь Володя "молокососом", он бы его предал
суду, как в Ростове в восемнадцатом предал суду Егора, каторжанина и
старого друга, за то, что тот распустил меньшевистские нюни. А теперь с
перерубленным горлом, и изумление в мертвых глазах. Я всегда чуял драму,
кровь и внезапность в его судьбе. "Не понимаю, хоть убейте, как можно без
суда, без разбора, лишь за принадлежность к казачьему сословию..." - "А
вот из-за таких, как ты, революция гибнет!" - "Из-за таких, как ты!" -
"Нет, из-за таких, как ты!"
Два свойства были ему присущи: изумление и упрямство. Он и к
большевикам-то примкнул, внезапно изумившись идее. Я любил их обоих:
его и
Асю. Детство прошло с ними. Вот он лежит с перерубленным горлом, а
Асю
унесли в теплый дом, она будет жить, Мигулин возьмет ее к себе, она станет
его женой.
А потом вот что: спустя год, Ростов, дом на Садовой, какая-то нелепая,
холодная, полутемная зала нежилого вида, стекла выбиты, кое-как закрыты
фанерой, а на улице мороз, небывалый для здешних мест, и я стою перед
дверью в соседнюю комнату, откуда должна появиться Ася. Там что-то
греется, оттуда тянет дымом. Вместо Аси выходит Елена Федоровна. Я
столько
раз бывал у них дома в Питере, пил чай в гостиной, где чугунный рыцарь
держал лампу на бронзовых подвесках, ел самодельное мороженое,
пахнущее
молоком, и Елена Федоровна говорила мне: Павлик. Она в пальто, голова
закутана чем-то белым, наподобие чалмы. Узнать ее почти нельзя. Взгляд
полон такого холода, что я отшатываюсь. Она не приглашает войти, не
говорит "Здравствуй, Павлик!", смотрит злобными, в воспаленных веках
глазами, то ли она больна, то ли плачет и произносит твердо: "Оставьте
дочь в покое. Не измывайтесь над ней". Она давным-давно говорила мне
"ты".
Хочет затворить дверь. Но я успеваю вставить ногу между створками и
кричу: