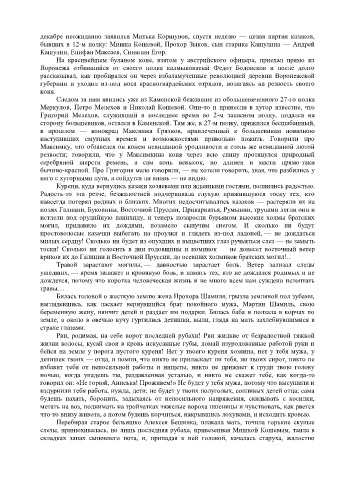Page 310 - Тихий Дон
P. 310
декабре неожиданно заявился Митька Коршунов, спустя неделю — целая партия казаков,
бывших в 12-м полку: Мишка Кошевой, Прохор Зыков, сын старика Кашулина — Андрей
Кашулин, Епифан Максаев, Синилин Егор.
На красивейшем буланом коне, взятом у австрийского офицера, приехал прямо из
Воронежа отбившийся от своего полка калмыковатый Федот Бодовсков и после долго
рассказывал, как пробирался он через взбаламученные революцией деревни Воронежской
губернии и уходил из-под носа красногвардейских отрядов, полагаясь на резвость своего
коня.
Следом за ним явились уже из Каменской бежавшие из обольшевиченного 27-го полка
Меркулов, Петро Мелехов и Николай Кошевой. Они-то и принесли в хутор известие, что
Григорий Мелехов, служивший в последнее время во 2-м запасном полку, подался на
сторону большевиков, остался в Каменской. Там же, в 27-м полку, прижился бесшабашный,
в прошлом — конокрад Максимка Грязнов, привлеченный к большевикам новизною
наступивших смутных времен и возможностями привольно пожить. Говорили про
Максимку, что обзавелся он конем невиданной уродливости и столь же невиданной лютой
резвости; говорили, что у Максимкина коня через всю спину протянулся природный
серебряной шерсти ремень, а сам конь невысок, но длинен и масти прямо-таки
бычино-красной. Про Григория мало говорили, — не хотели говорить, зная, что разбились у
него с хуторными пути, а сойдутся ли вновь — не видно.
Курени, куда вернулись казаки хозяевами или жданными гостями, полнились радостью.
Радость-то эта резче, безжалостней подчеркивала глухую прижившуюся тоску тех, кто
навсегда потерял родных и близких. Многих недосчитывались казаков — растеряли их на
полях Галиции, Буковины, Восточной Пруссии, Прикарпатья, Румынии, трупами легли они и
истлели под орудийную панихиду, и теперь позаросли бурьяном высокие холмы братских
могил, придавило их дождями, позамело сыпучим снегом. И сколько ни будут
простоволосые казачки выбегать на проулки и глядеть из-под ладоней, — не дождаться
милых сердцу! Сколько ни будет из опухших и выцветших глаз ручьиться слез — не замыть
тоски! Сколько ни голосить в дни годовщины и поминок — не донесет восточный ветер
криков их до Галиции и Восточной Пруссии, до осевших холмиков братских могил!..
Травой зарастают могилы, — давностью зарастает боль. Ветер зализал следы
ушедших, — время залижет и кровяную боль, и память тех, кто не дождался родимых и не
дождется, потому что коротка человеческая жизнь и не много всем нам суждено истоптать
травы…
Билась головой о жесткую землю жена Прохора Шамиля, грызла земляной пол зубами,
наглядевшись, как ласкает вернувшийся брат покойного мужа, Мартин Шамиль, свою
беременную жену, нянчит детей и раздает им подарки. Билась баба и ползала в корчах по
земле, а около в овечью кучу гуртились детишки, выли, глядя на мать захлебнувшимися в
страхе глазами.
Рви, родимая, на себе ворот последней рубахи! Рви жидкие от безрадостной тяжкой
жизни волосы, кусай свои в кровь искусанные губы, ломай изуродованные работой руки и
бейся на земле у порога пустого куреня! Нет у твоего куреня хозяина, нет у тебя мужа, у
детишек твоих — отца, и помни, что никто не приласкает ни тебя, ни твоих сирот, никто не
избавит тебя от непосильной работы и нищеты, никто не прижмет к груди твою голову
ночью, когда упадешь ты, раздавленная усталью, и никто не скажет тебе, как когда-то
говорил он: «Не горюй, Аниська! Проживем!» Не будет у тебя мужа, потому что высушили и
издурнили тебя работа, нужда, дети; не будет у твоих полуголых, сопливых детей отца; сама
будешь пахать, боронить, задыхаясь от непосильного напряжения, скидывать с косилки,
метать на воз, поднимать на тройчатках тяжелые вороха пшеницы и чувствовать, как рвется
что-то внизу живота, а потом будешь корчиться, накрывшись лохунами, и исходить кровью.
Перебирая старое бельишко Алексея Бешняка, плакала мать, точила горькие скупые
слезы, принюхивалась, но лишь последняя рубаха, привезенная Мишкой Кошевым, таила в
складках запах сыновнего пота, и, припадая к ней головой, качалась старуха, жалостно