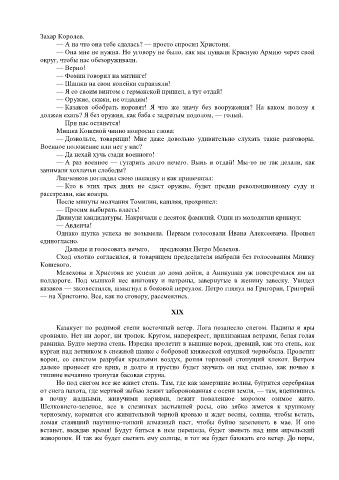Page 487 - Тихий Дон
P. 487
Захар Королев.
— А на что она тебе сдалась? — просто спросил Христоня.
— Она мне не нужна. Но уговору не было, как мы пущали Красную Армию через свой
округ, чтобы нас обезоруживали.
— Верно!
— Фомин говорил на митинге!
— Шашки на свои копейки справляли!
— Я со своим винтом с германской пришел, а тут отдай!
— Оружие, скажи, не отдадим!
— Казаков обобрать норовят! Я что же значу без вооружения? На каком полозу я
должен ехать? Я без оружия, как баба с задратым подолом, — голый.
— При нас останется!
Мишка Кошевой чинно попросил слова:
— Дозвольте, товарищи! Мне даже довольно удивительно слухать такие разговоры.
Военное положение или нет у нас?
— Да нехай хучь сзади военного!
— А раз военное — гутарить долго нечего. Вынь и отдай! Мы-то не так делали, как
занимали хохлачьи слободы?
Лапченков погладил свою папашку и как припечатал:
— Кто в этих трех днях не сдаст оружие, будет предан революционному суду и
расстрелян, как контра.
После минуты молчания Томилин, кашляя, прохрипел:
— Просим выбирать власть!
Двинули кандидатуры. Накричали с десяток фамилий. Один из молодятни крикнул:
— Авдеича!
Однако шутка успеха не возымела. Первым голосовали Ивана Алексеевича. Прошел
единогласно.
— Дальше и голосовать нечего, — предложил Петро Мелехов.
Сход охотно согласился, и товарищем председателя выбрали без голосования Мишку
Кошевого.
Мелеховы и Христоня не успели до дома дойти, а Аникушка уж повстречался им на
полдороге. Под мышкой нес винтовку и патроны, завернутые в женину завеску. Увидел
казаков — засовестился, шмыгнул в боковой переулок. Петро глянул на Григория, Григорий
— на Христоню. Все, как по сговору, рассмеялись.
XIX
Казакует по родимой степи восточный ветер. Лога позанесло снегом. Падины и яры
сровняло. Нет ни дорог, ни тропок. Кругом, наперекрест, прилизанная ветрами, белая голая
равнина. Будто мертва степь. Изредка пролетит в вышине ворон, древний, как эта степь, как
курган над летником в снежной шапке с бобровой княжеской опушкой чернобыла. Пролетит
ворон, со свистом разрубая крыльями воздух, роняя горловой стонущий клекот. Ветром
далеко пронесет его крик, и долго и грустно будет звучать он над степью, как ночью в
тишине нечаянно тронутая басовая струна.
Но под снегом все же живет степь. Там, где как замерзшие волны, бугрится серебряная
от снега пахота, где мертвой зыбью лежит заборонованная с осени земля, — там, вцепившись
в почву жадными, живучими корнями, лежит поваленное морозом озимое жито.
Шелковисто-зеленое, все в слезинках застывшей росы, оно зябко жмется к хрушкому
чернозему, кормится его живительной черной кровью и ждет весны, солнца, чтобы встать,
ломая стаявший паутинно-тонкий алмазный наст, чтобы буйно зазеленеть в мае. И оно
встанет, выждав время! Будут биться в нем перепела, будет звенеть над ним апрельский
жаворонок. И так же будет светить ему солнце, и тот же будет баюкать его ветер. До поры,