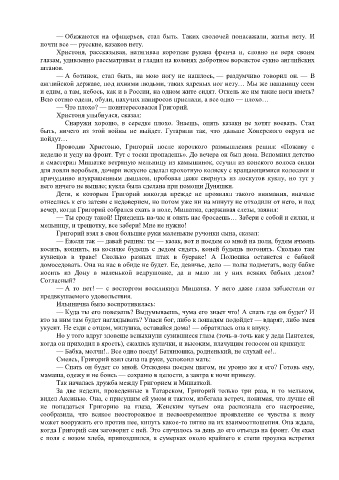Page 722 - Тихий Дон
P. 722
— Обижаются на офицерьев, стал быть. Таких сволочей понасажали, житья нету. И
почти все — русские, казаков нету.
Христоня, рассказывая, натягивал короткие рукава френча и, словно не веря своим
глазам, удивленно рассматривал и гладил на коленях добротное ворсистое сукно английских
штанов.
— А ботинок, стал быть, на мою ногу не нашлось, — раздумчиво говорил он. — В
английской державе, под ихними людьми, таких ядреных ног нету… Мы же пашаницу сеем
и едим, а там, небось, как и в России, на одном жите сидят. Откель же им такие ноги иметь?
Всю сотню одели, обули, пахучих папиросов прислали, а все одно — плохо…
— Что плохо? — поинтересовался Григорий.
Христоня улыбнулся, сказал:
— Снаружи хорошо, в середке плохо. Знаешь, опять казаки не хотят воевать. Стал
быть, ничего из этой войны не выйдет. Гутарили так, что дальше Хоперского округа не
пойдут…
Проводив Христоню, Григорий после короткого размышления решил: «Поживу с
неделю и уеду на фронт. Тут с тоски пропадешь». До вечера он был дома. Вспомнил детство
и смастерил Мишатке ветряную мельницу из камышинок, ссучил из конского волоса силки
для ловли воробьев, дочери искусно сделал крохотную коляску с вращающимися колесами и
причудливо изукрашенным дышлом, пробовал даже свернуть из лоскутов куклу, но тут у
него ничего не вышло; кукла была сделана при помощи Дуняшки.
Дети, к которым Григорий никогда прежде не проявлял такого внимания, вначале
отнеслись к его затеям с недоверием, но потом уже ни на минуту не отходили от него, и под
вечер, когда Григорий собрался ехать в поле, Мишатка, сдерживая слезы, заявил:
— Ты сроду такой! Приедешь на-час и опять нас бросаешь… Забери с собой и силки, и
мельницу, и трещотку, все забери! Мне не нужно!
Григорий взял в свои большие руки маленькие ручонки сына, сказал:
— Ежели так — давай решим: ты — казак, вот и поедем со мной на поля, будем ячмень
косить, копнить, на косилке будешь с дедом сидеть, коней будешь погонять. Сколько там
кузнецов в траве! Сколько разных птах в буераке! А Полюшка останется с бабкой
домоседовать. Она на нас в обиде не будет. Ее, девичье, дело — полы подметать, воду бабке
носить из Дону в маленькой ведрушонке, да и мало ли у них всяких бабьих делов?
Согласный?
— А то нет! — с восторгом воскликнул Мишатка. У него даже глаза заблестели от
предвкушаемого удовольствия.
Ильинична было воспротивилась:
— Куда ты его повезешь? Выдумываешь, чума его знает что! А спать где он будет? И
кто за ним там будет наглядывать? Упаси бог, либо к лошадям подойдет — вдарят, либо змея
укусит. Не езди с отцом, милушка, оставайся дома! — обратилась она к внуку.
Но у того вдруг зловеще вспыхнули сузившиеся глаза (точь-в-точь как у деда Пантелея,
когда он приходил в ярость), сжались кулачки, и высоким, плачущим голосом он крикнул:
— Бабка, молчи!.. Все одно поеду! Батянюшка, родненький, не слухай ее!..
Смеясь, Григорий взял сына на руки, успокоил мать:
— Спать он будет со мной. Отсюдова поедем шагом, не уроню же я его? Готовь ему,
мамаша, одежу и не боись — сохраню в целости, а завтра к ночи привезу.
Так началась дружба между Григорием и Мишаткой.
За две недели, проведенные в Татарском, Григорий только три раза, и то мельком,
видел Аксинью. Она, с присущим ей умом и тактом, избегала встреч, понимая, что лучше ей
не попадаться Григорию на глаза, Женским чутьем она распознала его настроение,
сообразила, что всякое неосторожное и несвоевременное проявление ее чувства к нему
может вооружить его против нее, кинуть какое-то пятно на их взаимоотношения. Она ждала,
когда Григорий сам заговорит с ней. Это случилось за день до его отъезда на фронт. Он ехал
с поля с возом хлеба, припозднился, в сумерках около крайнего к степи проулка встретил