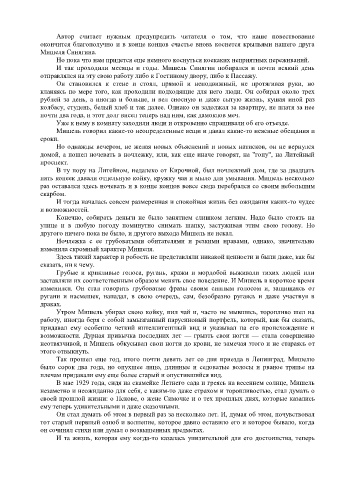Page 282 - Избранное
P. 282
Автор считает нужным предупредить читателя о том, что наше повествование
окончится благополучно и в конце концов счастье вновь коснется крыльями нашего друга
Мишеля Сннягина.
Но пока что нам придется еще немного коснуться коекаких неприятных переживаний.
И так проходили месяцы и годы. Мишель Синягин побирался и почти всякий день
отправлялся на эту свою работу либо к Гостиному двору, либо к Пассажу.
Он становился к стене и стоял, прямой и неподвижный, не протягивая руки, но
кланяясь по мере того, как проходили подходящие для него люди. Он собирал около трех
рублей за день, а иногда и больше, и вел сносную и даже сытую жизнь, кушая иной раз
колбасу, студень, белый хлеб и так далее. Однако он задолжал за квартиру, не платя за нее
почти два года, и этот долг висел теперь над ним, как дамоклов меч.
Уже к нему в комнату заходили люди и откровенно спрашивали об его отъезде.
Мишель говорил какие-то неопределенные вещи и давал какие-то неясные обещания и
сроки.
Но однажды вечером, не желая новых объяснений и новых натисков, он не вернулся
домой, а пошел ночевать в ночлежку, или, как еще иначе говорят, на "гопу", на Литейный
проспект.
В ту пору на Литейном, недалеко от Кирочной, был ночлежный дом, где за двадцать
пять копеек давали отдельную койку, кружку чая и мыло для умывания. Мишель несколько
раз оставался здесь ночевать и в конце концов вовсе сюда перебрался со своим небольшим
скарбом.
И тогда началась совсем размеренная и спокойная жизнь без ожидания каких-то чудес
и возможностей.
Конечно, собирать деньги не было занятием слишком легким. Надо было стоять на
улице и в любую погоду поминутно снимать шапку, застуживая этим свою голову. Но
другого ничего пока не было, и другого выхода Мишель не искал.
Ночлежка с ее грубоватыми обитателями и резкими нравами, однако, значительно
изменила скромный характер Мишеля.
Здесь тихий характер и робость не представляли никакой ценности и были даже, как бы
сказать, ни к чему.
Грубые и крикливые голоса, ругань, кражи и мордобой выживали тихих людей или
заставляли их соответственным образом менять свое поведение. И Мишель в короткое время
изменился. Он стал говорить грубоватые фразы своим сиплым голосом и, защищаясь от
ругани и насмешек, нападал, в свою очередь, сам, безобразно ругаясь и даже участвуя в
драках.
Утром Мишель убирал свою койку, пил чай и, часто не мывшись, торопливо шел на
работу, иногда беря с собой замызганный парусиновый портфель, который, как бы сказать,
придавал ему особенно четкий интеллигентный вид и указывал на его происхождение и
возможности. Дурная привычка последних лет — грызть свои ногти — стала совершенно
неотвязчивой, и Мишель обкусывал свои ногти до крови, не замечая этого и не стараясь от
этого отвыкнуть.
Так прошел еще год, итого почти девять лет со дня приезда в Ленинград. Мишелю
было сорок два года, но опухшее лицо, длинные и седоватые волосы и рваное тряпье на
плечам придавали ему еще более старый и опустившийся вид.
В мае 1929 года, сидя на скамейке Летнего сада и греясь на весеннем солнце, Мишель
незаметно и неожиданно для себя, с каким-то даже страхом и торопливостью, стал думать о
своей прошлой жизни: о Пскове, о жене Симочке и о тех прошлых днях, которые казались
ему теперь удивительными и даже сказочными.
Он стал думать об этом в первый раз за несколько лет. И, думая об этом, почувствовал
тот старый нервный озноб и волнение, которое давно оставило его и которое бывало, когда
он сочинял стихи или думал о возвышенных предметах.
И та жизнь, которая ему когда-то казалась унизительной для его достоинства, теперь