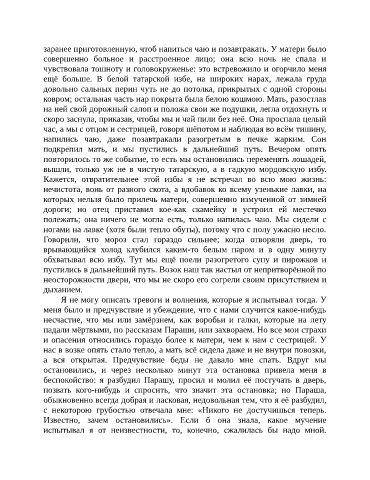Page 106 - «Детские годы Багрова-внука»
P. 106
заранее приготовленную, чтоб напиться чаю и позавтракать. У матери было
совершенно больное и расстроенное лицо; она всю ночь не спала и
чувствовала тошноту и головокруженье: это встревожило и огорчило меня
ещё больше. В белой татарской избе, на широких нарах, лежала груда
довольно сальных перин чуть не до потолка, прикрытых с одной стороны
ковром; остальная часть нар покрыта была белою кошмою. Мать, разостлав
на ней свой дорожный салоп и положа свои же подушки, легла отдохнуть и
скоро заснула, приказав, чтобы мы и чай пили без неё. Она проспала целый
час, а мы с отцом и сестрицей, говоря шёпотом и наблюдая во всём тишину,
напились чаю, даже позавтракали разогретым в печке жарким. Сон
подкрепил мать, и мы пустились в дальнейший путь. Вечером опять
повторилось то же событие, то есть мы остановились переменять лошадей,
вышли, только уж не в чистую татарскую, а в гадкую мордовскую избу.
Кажется, отвратительнее этой избы я не встречал во всю мою жизнь:
нечистота, вонь от разного скота, а вдобавок ко всему узенькие лавки, на
которых нельзя было прилечь матери, совершенно измученной от зимней
дороги; но отец приставил кое-как скамейку и устроил ей местечко
полежать; она ничего не могла есть, только напилась чаю. Мы сидели с
ногами на лавке (хотя были тепло обуты), потому что с полу ужасно несло.
Говорили, что мороз стал гораздо сильнее; когда отворяли дверь, то
врывающийся холод клубился каким-то белым паром и в одну минуту
обхватывал всю избу. Тут мы ещё поели разогретого супу и пирожков и
пустились в дальнейший путь. Возок наш так настыл от непритворённой по
неосторожности двери, что мы не скоро его согрели своим присутствием и
дыханием.
Я не могу описать тревоги и волнения, которые я испытывал тогда. У
меня было и предчувствие и убеждение, что с нами случится какое-нибудь
несчастие, что мы или замёрзнем, как воробьи и галки, которые на лету
падали мёртвыми, по рассказам Параши, или захвораем. Но все мои страхи
и опасения относились гораздо более к матери, чем к нам с сестрицей. У
нас в возке опять стало тепло, а мать всё сидела даже и не внутри повозки,
а вся открытая. Предчувствие беды не давало мне спать. Вдруг мы
остановились, и через несколько минут эта остановка привела меня в
беспокойство: я разбудил Парашу, просил и молил её постучать в дверь,
позвать кого-нибудь и спросить, что значит эта остановка; но Параша,
обыкновенно всегда добрая и ласковая, недовольная тем, что я её разбудил,
с некоторою грубостью отвечала мне: «Никого не достучишься теперь.
Известно, зачем остановились». Если б она знала, какое мучение
испытывал я от неизвестности, то, конечно, сжалилась бы надо мной.