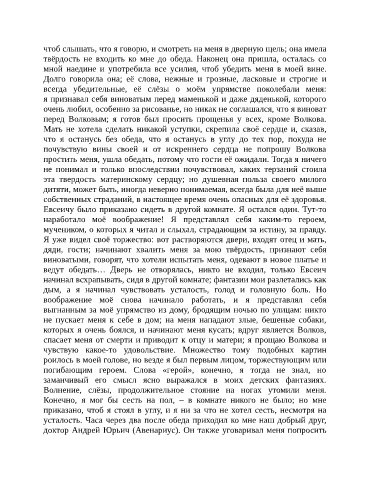Page 73 - «Детские годы Багрова-внука»
P. 73
чтоб слышать, что я говорю, и смотреть на меня в дверную щель; она имела
твёрдость не входить ко мне до обеда. Наконец она пришла, осталась со
мной наедине и употребила все усилия, чтоб убедить меня в моей вине.
Долго говорила она; её слова, нежные и грозные, ласковые и строгие и
всегда убедительные, её слёзы о моём упрямстве поколебали меня:
я признавал себя виноватым перед маменькой и даже дяденькой, которого
очень любил, особенно за рисованье, но никак не соглашался, что я виноват
перед Волковым; я готов был просить прощенья у всех, кроме Волкова.
Мать не хотела сделать никакой уступки, скрепила своё сердце и, сказав,
что я останусь без обеда, что я останусь в углу до тех пор, покуда не
почувствую вины своей и от искреннего сердца не попрошу Волкова
простить меня, ушла обедать, потому что гости её ожидали. Тогда я ничего
не понимал и только впоследствии почувствовал, каких терзаний стоила
эта твердость материнскому сердцу; но душевная польза своего милого
дитяти, может быть, иногда неверно понимаемая, всегда была для неё выше
собственных страданий, в настоящее время очень опасных для её здоровья.
Евсеичу было приказано сидеть в другой комнате. Я остался один. Тут-то
наработало моё воображение! Я представлял себя каким-то героем,
мучеником, о которых я читал и слыхал, страдающим за истину, за правду.
Я уже видел своё торжество: вот растворяются двери, входят отец и мать,
дяди, гости; начинают хвалить меня за мою твёрдость, признают себя
виноватыми, говорят, что хотели испытать меня, одевают в новое платье и
ведут обедать… Дверь не отворялась, никто не входил, только Евсеич
начинал всхрапывать, сидя в другой комнате; фантазии мои разлетались как
дым, а я начинал чувствовать усталость, голод и головную боль. Но
воображение моё снова начинало работать, и я представлял себя
выгнанным за моё упрямство из дому, бродящим ночью по улицам: никто
не пускает меня к себе в дом; на меня нападают злые, бешеные собаки,
которых я очень боялся, и начинают меня кусать; вдруг является Волков,
спасает меня от смерти и приводит к отцу и матери; я прощаю Волкова и
чувствую какое-то удовольствие. Множество тому подобных картин
роилось в моей голове, но везде я был первым лицом, торжествующим или
погибающим героем. Слова «герой», конечно, я тогда не знал, но
заманчивый его смысл ясно выражался в моих детских фантазиях.
Волнение, слёзы, продолжительное стояние на ногах утомили меня.
Конечно, я мог бы сесть на пол, – в комнате никого не было; но мне
приказано, чтоб я стоял в углу, и я ни за что не хотел сесть, несмотря на
усталость. Часа через два после обеда приходил ко мне наш добрый друг,
доктор Андрей Юрьич (Авенариус). Он также уговаривал меня попросить