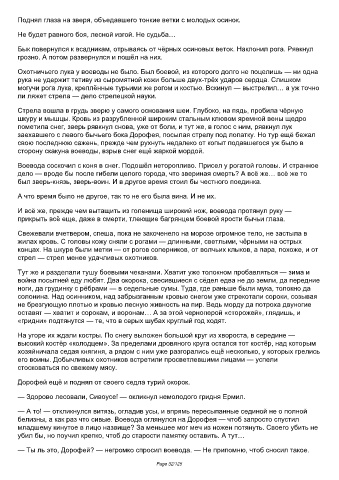Page 32 - Евпатий Коловрат
P. 32
Поднял глаза на зверя, объедавшего тонкие ветки с молодых осинок.
Не будет равного боя, лесной изгой. Не судьба…
Бык повернулся к всадникам, отрываясь от чёрных осиновых веток. Наклонил рога. Рявкнул
грозно. А потом развернулся и пошёл на них.
Охотничьего лука у воеводы не было. Был боевой, из которого долго не поцелишь — ни одна
рука не удержит тетиву из сыромятной кожи больше двух-трёх ударов сердца. Слишком
могучи рога лука, креплённые турьими же рогом и костью. Вскинул — выстрелил… а уж точно
ли ляжет стрела — дело стрелецкой науки.
Стрела вошла в грудь зверю у самого основания шеи. Глубоко, на пядь, пробила чёрную
шкуру и мышцы. Кровь из разрубленной широким стальным клювом яремной вены щедро
пометила снег, зверь рявкнул снова, уже от боли, и тут же, в голос с ним, рявкнул лук
заехавшего с левого бычьего бока Дорофея, посылая стрелу под лопатку. Но тур ещё бежал
свою последнюю сажень, прежде чем рухнуть недалеко от копыт подавшегося уж было в
сторону скакуна воеводы, взрыв снег ещё жаркой мордой.
Воевода соскочил с коня в снег. Подошёл неторопливо. Присел у рогатой головы. И странное
дело — вроде бы после гибели целого города, что звериная смерть? А всё же… всё же то
был зверь-князь, зверь-воин. И в другое время стоил бы честного поединка.
А что время было не другое, так то не его была вина. И не их.
И всё же, прежде чем вытащить из голенища широкий нож, воевода протянул руку —
прикрыть всё еще, даже в смерти, тлеющие багрянцем боевой ярости бычьи глаза.
Свежевали вчетвером, спеша, пока не закоченело на морозе огромное тело, не застыла в
жилах кровь. С головы кожу сняли с рогами — длинными, светлыми, чёрными на острых
концах. На шкуре были метки — от рогов соперников, от волчьих клыков, а пара, похоже, и от
стрел — стрел менее удачливых охотников.
Тут же и разделали тушу боевыми чеканами. Хватит уже толокном пробавляться — зима и
война посытней еду любят. Два окорока, свесившиеся с сёдел едва не до земли, да передние
ноги, да грудинку с рёбрами — в седельные сумы. Туда, где раньше были мука, толокно да
солонина. Над осинником, над забрызганным кровью снегом уже стрекотали сороки, созывая
не брезгующую плотью и кровью лесную живность на пир. Ведь морду да потроха двуногие
оставят — хватит и сорокам, и воронам… А за этой черноперой «сторожей», глядишь, и
«гридни» подтянутся — те, что в серых шубах круглый год ходят.
На угоре их ждали костры. По снегу выложен большой круг из хвороста, в середине —
высокий костёр «колодцем». За пределами дровяного круга остался тот костёр, над которым
хозяйничала седая княгиня, а рядом с ним уже разгорались ещё несколько, у которых грелись
его воины. Добычливых охотников встретили просветлевшими лицами — успели
стосковаться по свежему мясу.
Дорофей ещё и поднял от своего седла турий окорок.
— Здорово лесовали, Сивоусе! — окликнул немолодого гридня Ермил.
— А то! — откликнулся витязь, огладив усы, и впрямь пересыпанные сединой не о полной
белизны, а как раз что сивые. Воевода оглянулся на Дорофея — чтоб запросто спустил
младшему кинутое в лицо назвище? За меньшее мог меч из ножен потянуть. Своего убить не
убил бы, но поучил крепко, чтоб до старости памятку оставить. А тут…
— Ты ль это, Дорофей? — негромко спросил воевода. — Не припомню, чтоб сносил такое.
Page 32/125