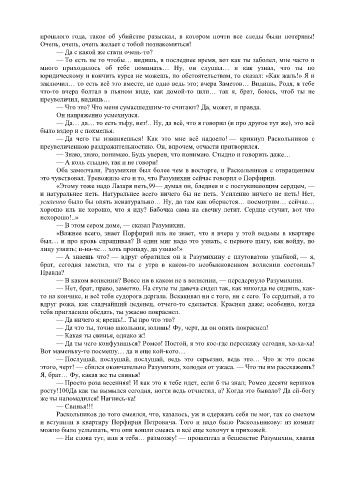Page 127 - Преступление и наказание
P. 127
прошлого года, такое об убийстве разыскал, в котором почти все следы были потеряны!
Очень, очень, очень желает с тобой познакомиться!
— Да с какой же стати очень-то?
— То есть не то чтобы… видишь, в последнее время, вот как ты заболел, мне часто и
много приходилось об тебе поминать… Ну, он слушал… и как узнал, что ты по
юридическому и кончить курса не можешь, по обстоятельствам, то сказал: «Как жаль!» Я и
заключил… то есть всё это вместе, не одно ведь это; вчера Заметов… Видишь, Родя, я тебе
что-то вчера болтал в пьяном виде, как домой-то шли… так я, брат, боюсь, чтоб ты не
преувеличил, видишь…
— Что это? Что меня сумасшедшим-то считают? Да, может, и правда.
Он напряженно усмехнулся.
— Да… да… то есть тьфу, нет!.. Ну, да всё, что я говорил (и про другое тут же), это всё
было вздор и с похмелья.
— Да чего ты извиняешься! Как это мне всё надоело! — крикнул Раскольников с
преувеличенною раздражительностию. Он, впрочем, отчасти притворился.
— Знаю, знаю, понимаю. Будь уверен, что понимаю. Стыдно и говорить даже…
— А коль стыдно, так и не говори!
Оба замолчали. Разумихин был более чем в восторге, и Раскольников с отвращением
это чувствовал. Тревожило его и то, что Разумихин сейчас говорил о Порфирии.
«Этому тоже надо Лазаря петь,99— думал он, бледнея и с постукивающим сердцем, —
и натуральнее петь. Натуральнее всего ничего бы не петь. Усиленно ничего не петь! Нет,
усиленно было бы опять ненатурально… Ну, да там как обернется… посмотрим… сейчас…
хорошо иль не хорошо, что я иду? Бабочка сама на свечку летит. Сердце стучит, вот что
нехорошо!..»
— В этом сером доме, — сказал Разумихин.
«Важнее всего, знает Порфирий иль не знает, что я вчера у этой ведьмы в квартире
был… и про кровь спрашивал? В один миг надо это узнать, с первого шагу, как войду, по
лицу узнать; и-на-че… хоть пропаду, да узнаю!»
— А знаешь что? — вдруг обратился он к Разумихину с плутоватою улыбкой, — я,
брат, сегодня заметил, что ты с утра в каком-то необыкновенном волнении состоишь?
Правда?
— В каком волнении? Вовсе ни в каком не в волнении, — передернуло Разумихина.
— Нет, брат, право, заметно. На стуле ты давеча сидел так, как никогда не сидишь, как-
то на кончике, и всё тебя судорога дергала. Вскакивал ни с того, ни с сего. То сердитый, а то
вдруг рожа, как сладчайший леденец, отчего-то сделается. Краснел даже; особенно, когда
тебя пригласили обедать, ты ужасно покраснел.
— Да ничего я; врешь!.. Ты про что это?
— Да что ты, точно школьник, юлишь! Фу, черт, да он опять покраснел!
— Какая ты свинья, однако ж!
— Да ты чего конфузишься? Ромео! Постой, я это кое-где перескажу сегодня, ха-ха-ха!
Вот маменьку-то посмешу… да и еще кой-кого…
— Послушай, послушай, послушай, ведь это серьезно, ведь это… Что ж это после
этого, черт! — сбился окончательно Разумихин, холодея от ужаса. — Что ты им расскажешь?
Я, брат… Фу, какая же ты свинья!
— Просто роза весенняя! И как это к тебе идет, если б ты знал; Ромео десяти вершков
росту!100Да как ты вымылся сегодня, ногти ведь отчистил, а? Когда это бывало? Да ей-богу
же ты напомадился! Нагнись-ка!
— Свинья!!!
Раскольников до того смеялся, что, казалось, уж и сдержать себя не мог, так со смехом
и вступили в квартиру Порфирия Петровича. Того и надо было Раскольникову: из комнат
можно было услышать, что они вошли смеясь и всё еще хохочут в прихожей.
— Ни слова тут, или я тебя… размозжу! — прошептал в бешенстве Разумихин, хватая