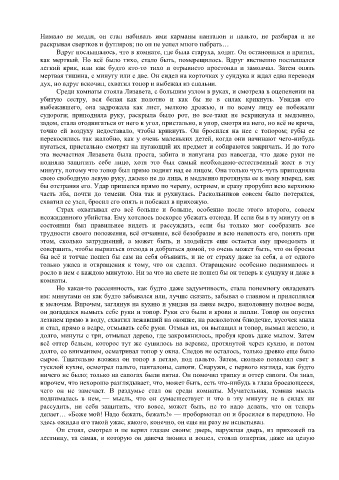Page 41 - Преступление и наказание
P. 41
Нимало не медля, он стал набивать ими карманы панталон и пальто, не разбирая и не
раскрывая свертков и футляров; но он не успел много набрать…
Вдруг послышалось, что в комнате, где была старуха, ходят. Он остановился и притих,
как мертвый. Но всё было тихо, стало быть, померещилось. Вдруг явственно послышался
легкий крик, или как будто кто-то тихо и отрывисто простонал и замолчал. Затем опять
мертвая тишина, с минуту или с две. Он сидел на корточках у сундука и ждал едва переводя
дух, но вдруг вскочил, схватил топор и выбежал из спальни.
Среди комнаты стояла Лизавета, с большим узлом в руках, и смотрела в оцепенении на
убитую сестру, вся белая как полотно и как бы не в силах крикнуть. Увидав его
выбежавшего, она задрожала как лист, мелкою дрожью, и по всему лицу ее побежали
судороги; приподняла руку, раскрыла было рот, но все-таки не вскрикнула и медленно,
задом, стала отодвигаться от него в угол, пристально, в упор, смотря на него, но всё не крича,
точно ей воздуху недоставало, чтобы крикнуть. Он бросился на нее с топором; губы ее
перекосились так жалобно, как у очень маленьких детей, когда они начинают чего-нибудь
пугаться, пристально смотрят на пугающий их предмет и собираются закричать. И до того
эта несчастная Лизавета была проста, забита и напугана раз навсегда, что даже руки не
подняла защитить себе лицо, хотя это был самый необходимо-естественный жест в эту
минуту, потому что топор был прямо поднят над ее лицом. Она только чуть-чуть приподняла
свою свободную левую руку, далеко не до лица, и медленно протянула ее к нему вперед, как
бы отстраняя его. Удар пришелся прямо по черепу, острием, и сразу прорубил всю верхнюю
часть лба, почти до темени. Она так и рухнулась. Раскольников совсем было потерялся,
схватил ее узел, бросил его опять и побежал в прихожую.
Страх охватывал его всё больше и больше, особенно после этого второго, совсем
неожиданного убийства. Ему хотелось поскорее убежать отсюда. И если бы в ту минуту он в
состоянии был правильнее видеть и рассуждать, если бы только мог сообразить все
трудности своего положения, всё отчаяние, всё безобразие и всю нелепость его, понять при
этом, сколько затруднений, а может быть, и злодейств еще остается ему преодолеть и
совершить, чтобы вырваться отсюда и добраться домой, то очень может быть, что он бросил
бы всё и тотчас пошел бы сам на себя объявить, и не от страху даже за себя, а от одного
только ужаса и отвращения к тому, что он сделал. Отвращение особенно поднималось и
росло в нем с каждою минутою. Ни за что на свете не пошел бы он теперь к сундуку и даже в
комнаты.
Но какая-то рассеянность, как будто даже задумчивость, стала понемногу овладевать
им: минутами он как будто забывался или, лучше сказать, забывал о главном и прилеплялся
к мелочам. Впрочем, заглянув на кухню и увидав на лавке ведро, наполовину полное воды,
он догадался вымыть себе руки и топор. Руки его были в крови и липли. Топор он опустил
лезвием прямо в воду, схватил лежавший на окошке, на расколотом блюдечке, кусочек мыла
и стал, прямо в ведре, отмывать себе руки. Отмыв их, он вытащил и топор, вымыл железо, и
долго, минуты с три, отмывал дерево, где закровянилось, пробуя кровь даже мылом. Затем
всё оттер бельем, которое тут же сушилось на веревке, протянутой через кухню, и потом
долго, со вниманием, осматривал топор у окна. Следов не осталось, только древко еще было
сырое. Тщательно вложил он топор в петлю, под пальто. Затем, сколько позволял свет в
тусклой кухне, осмотрел пальто, панталоны, сапоги. Снаружи, с первого взгляда, как будто
ничего не было; только на сапогах были пятна. Он помочил тряпку и оттер сапоги. Он знал,
впрочем, что нехорошо разглядывает, что, может быть, есть что-нибудь в глаза бросающееся,
чего он не замечает. В раздумье стал он среди комнаты. Мучительная, темная мысль
поднималась в нем, — мысль, что он сумасшествует и что в эту минуту не в силах ни
рассудить, ни себя защитить, что вовсе, может быть, не то надо делать, что он теперь
делает… «Боже мой! Надо бежать, бежать!» — пробормотал он и бросился в переднюю. Но
здесь ожидал его такой ужас, какого, конечно, он еще ни разу не испытывал.
Он стоял, смотрел и не верил глазам своим: дверь, наружная дверь, из прихожей на
лестницу, та самая, в которую он давеча звонил и вошел, стояла отпертая, даже на целую